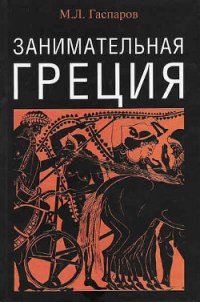Избранные статьи - Гаспаров Михаил Леонович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Перелом, предельное отрешение от прошлого и рождение для будущего — это VI книга «Энеиды», спуск и выход из царства мертвых, символ, знакомый нам по Дафнису и Орфею. В начале перед Энеем в последний раз проходит пережитое — тень Деифоба напоминает о родине, тень Дидоны о любви; в середине познается вечное — круговорот очищения душ от телесных страстей (это — точка соприкосновения природы и истории, кругового и прямого пути, «Георгик» и «Энеиды»); в конце открывается будущее — вереница героев римского народа от древнейших царей до Августа и Марцелла. Здесь, на самом переломе поэмы, устами Анхиса произносятся ее ключевые стихи, знаменитая формула исторической миссии Рима (VI, 847–853): «Пусть другие тоньше выкуют дышащую бронзу, живыми выведут облики из мрамора, лучше будут говорить речи, тростью расчертят движенье небес и предскажут восходы светил, — ты же, римлянин, помни державно править народами, и будут искусства твои: налагать обычаи мира, щадить покоренных, а заносчивых смирять оружием». Эти слова замечательны: поэт говорит о Риме, но в поле его зрения — весь круг земной, а в мысли его — мир между его народами. Эгоцентризма (на этот раз национального) нет и здесь. Римляне — народ избранный, но не потому, что он лучше других, а потому, что он способнее поддерживать мирное единство всех остальных народов. Символ этого единства — начало самого римского народа: скоро мы увидим, как в нем сливаются и троянцы, и латины, и этруски, и дорогие сердцу поэта Эвандровы аркадяне. Имени Трои больше нет: троянское зерно умерло и проросло новым колосом. Власть Рима над миром — не право, а бремя, оно требует от несущего жертв, и прежде всего — отрешения от чреватых раздорами страстей (VI, 832: «Дети, дети, не приучайте сердце к таким войнам!» — отечески обращается Анхис к теням — ни много ни мало — Цезаря и Помпея). Выдержит ли римлянин этот нравственный экзамен?
И тут начинается вторая половина поэмы, война за Лаций, вереница коротких, но кровавых битв, о которых не любит перечитывать современный читатель. Зачем они? Затем, что испытания Энея не кончились, самое тяжкое — впереди. До сих пор он отрекался от себя во имя судьбы — теперь он должен убивать других во имя судьбы. Это — его «недобрый труд» в истории: творить людям зло для их же блага, водворять мир войной. Война у Вергилия страшнее, чем у Гомера. Она почти гражданская: ведь сражаются народы, которые уже вступили в союз и вскоре сольются воедино. В ней гибнут самые молодые и цветущие: Нис с Эвриалом, Паллант, Лаве, Камилла. В ней Эней встречается, можно сказать, с самим собой: Турн, его соперник, — это такой же герой, по-гомеровски бездумный, преданный ратной чести и защищающий свое отечество от пришельцев, каким был Эней в начале «Энеиды». Сможет ли Эней сохранить в битвенном пылу свою с таким трудом достигнутую отрешенность от людских страстей, соблюдет ли завет: «щадить покоренных и смирять заносчивых»? И мы видим: по крайней мере, два раза у него не хватает на это сил, два раза он забывает обо всем и начинает рубить без разбора налево и направо, как гомеровский витязь, — воевать ради войны, а не ради мира. В первый раз — тотчас после гибели юного Палланта (в X книге); во второй раз — и это знаменательно — в самых последних строках поэмы, в исходе единоборства с Турном, убийцей Палланта: поверженный Турн признает себя побежденным и просит лишь о пощаде во имя отца («и у тебя ведь был Анхис!»), — но Эней замечает на нем пояс, снятый с Палланта, и, вспыхнув, поражает молящего мечом. (У Вергилия нет мелочей: внимательный читатель вспомнит, что на бляхах этого пояса были изображены Данаиды и Египтиады, прообраз всех мифологических братоубийств: X, 496–499.) С лучшим своим героем Вергилий расстается в момент худшего его поступка: слава року спета, слава человеку оборвана на полуслове.
А стоит ли рок славы? Стоит ли возрождение смерти? Не обманет ли будущее? Всем смыслом своего творчества Вергилий отвечал: стоит. Он был человеком, который пережил конец света и написал IV эклогу: он верил в будущее. Иное дело — его читатели: они относились и этому по-разному. Были эпохи, верившие в будущее и отрекавшиеся от прошлого, и для них героем «Энеиды» был Эней; были эпохи, предпочитавшие верить в настоящее и жалеть о прошлом, и для них героем «Энеиды» была Дидона, о которой сочинялись трогательные драмы и оперы. Вергилий тоже жалел свою Дидону, и жалел горячо, — но так, как зоркий жалеет близорукого. Его героем был не тот, кто утверждает свою личность, а тот, кто растворяет ее в круговороте природы и в прямоте судьбы. О таких он мог сказать, как сказал о своих крестьянах: они счастливы, хоть и не знают своего счастья. Сливая свою волю с судьбой, человек уподобляется не менее чем самому Юпитеру, который в решающий момент отрекается от всякого действия: «рок дорогу найдет» (X, 113). Безликий, сам себя обезличивающий Эней кажется зияющей пустотой в ряду пластических образов античного эпоса, — но это пустота силового поля. Людей XIX века она удивляла, люди XX века научились ее ценить.
Не так ли сам Вергилий от произведения к произведению растворял себя в той судьбе, которая оказалась его уделом, — в поэзии? От полу-лирических «Буколик» он шел к дидактическим «Георгикам» и затем к мифологическому эпосу «Энеиды». В «Буколиках» читателю всех веков мерещился образ самого поэта; в «Георгиках» слышался его голос; в «Энеиде» поэта нет — он растворился в языке и мифе. Начиная это введение в поэзию Вергилия, мы видели высокого, смуглого и застенчивого человека, упорно, вдумчиво и неудовлетворенно трудящегося над стихами. Теперь мы можем забыть этого человека: перед нами — его стихи.
Гораций, или Золото середины
Имя Горация — одно из самых популярных среди имен писателей древности. Даже те, кто никогда не читал ни одной его строчки, обычно знакомы с этим именем. Хотя бы по русской классической поэзии, где Гораций был частым гостем. Недаром Пушкин в одном из первых своих стихотворений перечисляет его среди своих любимых поэтов: «Питомцы юных Граций, с Державиным потом чувствительный Гораций является вдвоем…» — а в одном из последних стихотворений ставит его слова — начальные слова оды III, 30 — эпиграфом к собственным строкам на знаменитую горациевскую тему: «Exegi monumentum. Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Но если читатель, плененный тем образом «питомца юных Граций», какой рисуется в русской поэзии, возьмет в руки стихи самого Горация в русских переводах, его ждет неожиданность, а может быть, и разочарование.
Неровные строчки, без рифм, с трудно уловимым переменчивым ритмом. Длинные фразы, перекидывающиеся из строчки в строчку, начинающиеся второстепенными словами и лишь медленно и с трудом добирающиеся до подлежащего и сказуемого. Странная расстановка слов, естественный порядок которых, словно нарочно, сбит и перемешан. Великое множество имен и названий, звучных, но малопонятных и, главное, совсем, по-видимому, не идущих к теме. Странный ход мысли, при котором сплошь и рядом к концу стихотворения поэт словно забывает то, что было вначале, и говорит совсем о другом. А когда сквозь все эти препятствия читателю удается уловить главную идею того или другого стихотворения, то идея эта оказывается разочаровывающе банальной: «Наслаждайся жизнью и не гадай о будущем», «Душевный покой дороже богатства» и т. п. Вот в каком виде раскрывается поэзия Горация перед неопытным читателем.
Если после этого удивленный читатель, стараясь понять, почему же Гораций пользуется славой великого поэта, попытается заглянуть в толстые книги по истории древней римской литературы, то и здесь он вряд ли найдет ответ на свои сомнения. Здесь он прочитает, что Гораций родился в 65 г. до н. э. и умер в 8 г. до н. э.; что это время его жизни совпадает с важнейшим переломом в истории Рима — падением республики и установлением империи; что в молодости Гораций был республиканцем и сражался в войсках Брута, последнего поборника республики, но после поражения Брута перешел на сторону Октавиана Августа, первого римского императора, стал близким другом пресловутого Мецената — руководителя «идеологической политики» Августа, получил в подарок от Мецената маленькое имение среди Апеннин и с тех пор до конца дней прославлял мир и счастье римского государства под благодетельной властью Августа: в таких-то одах прославлял так-то, а в таких-то одах так-то. Все это — сведения очень важные, но ничуть не объясняющие, почему Гораций был великим поэтом. Скорее, наоборот, они складываются в малопривлекательный образ поэта-ренегата и царского льстеца.