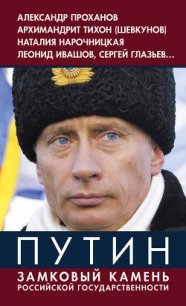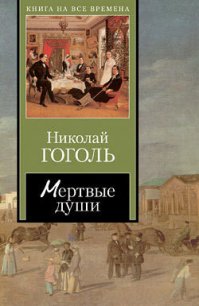Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
И природный, и культурный, и социальный смех в своей триипостасности нацелен на сохранение лада. Гармонию не следует нарушать, эти жесты творчески бесплодны. Нужен творческий смех, и потому необходимо ответить на вызов: нужно по-сметь. «На открытое нахальство следует отвечать молчаливым смехом», — советовал Василий Ключевский.
Непонятно утверждение, что «русский смех — личностно направленный, безапелляционно врывается в трагичность личного бытия, беззащитного перед man — способен и Христа на кресте осмеять» ([Тульчинский 1996: 69], — но кто осмеял Христа на кресте — известно) — в отличие, якобы, от смеха английского (построен на языковой игре — номиналистичен), французского (концептуален, построен на игре ума) и даже немецкого, который ситуационен, построен на игре положений (реалистичен).
Русские философы заметили эту черту славянской ментальности — способность оценивать всё с юмористической точки зрения, добавив, что еще и англичане разделяют с нами такую особенность мысли. Такую, да не совсем. У англичан юмор «тоньше», в том смысле, что англичане-номиналисты воспринимают как юмористические конфликты между идеей и словом, им кажется, что о вещи они всё знают, из вещи исходят в своих суждениях, а проверке — через смех — подвергают не идею в отношении к вещи, как мы, а идею в отношении к слову.
Русский смех всегда одинаков — это «взятие на себя»: обращенное чувство. Таковы и скоморошина, и даже юродство. Смех над самим собой. Русский язык слишком долго толкал сознание на этот путь, например пересечением субъект-объектных отношений в общем слове и высказывании, выраженным, в частности, категорией залога. Какую-то роль в этом случае сыграло представление о собирательной множественности согласно принципу соборности, да и различные формы смеха, еще не собранные вместе («ситуационные»), которые по-немецки педантично перечислил В. Я. Пропп [Пропп 1976: 142] — от смеха доброго до смеха от щекотки. Всё это общим имеет признание того, что смех вызывается противоречием между идеалом должного и вещным его проявлением («черствые и тупые не смеются» — видимо, потому, что им трудно согласовать несогласованность идеи и вещи). Духовность и моральное лежат в основе человечного смеха.
Постоянный интерес русского «реалиста» (в философском смысле) к идее, исходящей от вещи, обогащает мысль и развивает саму идею, которая предстает в разнообразии видов, освещенная каждый раз по-разному, многослойно и красочно, сама постоянно изменяясь. В этом достоинство «реалиста». Подобное бифокальное зрение обогащает его новым знанием и о вещи, и об идее в диалектическом движении мысли. Обогащает через личное познание, а не получением информации о чужом опыте через слово. Юмористическое отношение к миру возникает в зазоре между реальным и действительным, между идеей и вещью, а именно в этом, недоступном рассудку, пространстве и кружит воображение реалиста, способного принять этот мир таким, каков он на самом деле: смешным.
Реалист ценит смех за минутную радость — чувство освобождения (Алексей Хомяков). Радость и веселье — тоже древняя формула русской жизни, сохранившая представление о совместности личной радости и коллективного веселья: личного переживания эмоции и совместного действия.
Но ученые разделяют эти два слова, говоря о самобытности их существования.
Радость возводят к отглагольному корню в перфектном значении; он обозначал состояние духа человека, возникшее под влиянием внешних причин, которые всегда остаются неведомыми и самому радующемуся. И источник радости, и ее переживание обозначались «как объективное явление, так и субъективное чувство», совмещающее «целевую причину» — тот мотив действий, который одновременно устанавливает цель, ради которой следует действовать, и объясняет причину вызванного этим состояния [Степанов 1997: 306, 308]. Предлог ради, слово радуга и множество других остатков старого глагольного корня сохранились в современном языке, но теперь они специализировали свое значение, даже глагол радѣти > радеть (грибоедовское «ну как не порадеть родному человечку!») — ‘заботиться о...’. По мнению академика Ю. С. Степанова, *rad- значило ‘готовый к благодеянию, его совершению или восприятию’, т. е. (в глагольном воплощении) — делать кого-то веселым. «Ощущение внутреннего комфорта, удовольствия бытия, возникшее в ответ на осознание (или просто ощущение) гармонии меня со средой, „заботы“ кого-то обо мне (это причина; причина здесь может быть и ,,неведомой“), и сопровождающееся моей готовностью проявить такую же заботу в отношении к другому. Это — мотив, цель; как и причина, цель и ее объект — „другой, другое“ могут быть также „неведомыми“, лингвист сказал бы „референтно неопределенными“, — „другое“ здесь, по отношению к которому я проявляю готовность, — это сама жизнь» [Степанов 1997: 312]. В русском языке представлено несколько сочетаний с выражением типичного признака «радости» — беспричинная радость, неожиданная радость, непонятная радость, возникающая в человеческом сердце вдруг и случайно. Социальность этого чувства — известное его свойство. Радость соединяет людей.
Формула радость и веселье также возникла как распространение внутренней формы слова радость: веселье есть уже результат совместной радости, претворенный в действие.
Академик Н. И. Толстой рассматривал символ *ves-el- в реалиях рождения и Рождества, весенних (*ves-na) празднеств (свадьбы, светила, стихии, солнце, радуга и т. д.). Это проявление сакральных, небесных, духовных и потому душевно-внутренних переживаний язычника, которые сохранились в современном представлениях именно благодаря внутренней форме древнего славянского слова; веселый — здоровый и, следовательно, счастливый [Толстой 1995: 316]. «Веселие света сего» — это праздник, потому что праздник — совместная радость, не обязательно смех, но именно радость, взаимная обращенность близких друг к другу, желание быть вместе.
В староанглийском радость — нечто, что обязательно воспринимается зрительно и на слух, т. е. вовсе не внутреннее состояние души человека, хотя также связанное с культовым действом [Феоктистова 1984: 45]; в словах типа wynn, blise выражена идея, близкая к смыслу славянского слова веселье. Петр Бицилли [1919: 45] писал, что средневековая Европа понимала радость — gaudium — как вещь, которая присоединяется к эмоции и многократно может быть усилена, сначала как радуются, потом как радуются радостью, затем как радуются великой радостью. В древнерусских текстах подобное расширение смысла риторическим плеоназмом также возможно. Такое впечатление, будто внутренний смысл древнего слова выпирает наружу, в некоторых случаях не обретая смысловых границ. Великая радость переполняет сердца.
Современные исследователи полагают (ошибочно), будто русское представление о радости ограничивается состоянием удовольствия. Это не так: здесь просто влияние французских слов (например, joie, plaisir), которое семантически распространилось в литературном языке. Русское «испытать радость» вовсе не значит «получить удовольствие». «Русская радость» альтруистична, она избегает эгоистических удовольствий так же, как и не связывает радость со страданием. «Радости нужно страдание, — писал Шеллинг, выражая немецкое представление об этой эмоции, — страдание должно преображаться в радость». Когда Лев Карсавин в своих парафразах выражает ту же мысль, он просто следует за идеей немецкого происхождения. Ни английского внешнего впечатления, ни немецкого страдания, ни французского удовольствия русское состояние радости не несет.
Это чувство единения с миром в естественном состоянии здорового духа.