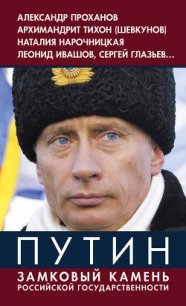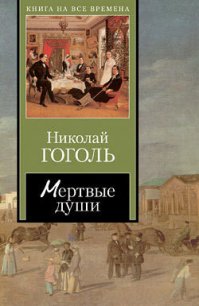Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
То, что на Западе называют понятием: совмещенность содержания и объема, — у нас как бы двоится на содержание-признак и на предметность-объем; в этом русская гносеология: содержание есть идея, а объем равновелик вещи. Об этом говорит философ конца XIX в.: «Знание предметное все насквозь, с начала до конца, опосредовано субъективным. Истина предметная, к приобретению которой оно стремится, есть не вся истина, но только часть ее, еще вопрос, важнейшая ли даже часть ее. Ведь кроме предмета, к которому познающий субъект стоит и должен, по основному предположению предметного знания (определенность предмета, независимая от случайного восприятия его, случайной мысли о нем), стоять в отношении внешности, остается еще самый этот субъект, который тоже ведь знает нечто о себе, и знает первее, непосредственнее»; знание постигает феноменальное, а вера субъекта постигает «знание самого существа», «полной истины» [Астафьев 2000: 407] — в концептуальном признаке.
Реальная рефлексия по этому поводу должна отражать историческую действительность развития. Любой философ представляет это себе вполне ясно. Используем сводную схему [Пелипенко, Яковенко 1998: 147 и коммент. на с. 166, 190]:

Таковы уровни «первотектональных интенций» субъекта, первые три сверху охватывают лично-психологические, два следующие — социальные, два нижних — природно-физические свойства (в синкретизме представлений). Вопрос в том, какие уровни принадлежат ментальности и до каких пределов распространяется менталитет того или другого этноса? Концептуальная зона распространяется на все уровни, кроме двух нижних, которые вообще не следует открывать, ибо это «убьет трансцендирующий импульс» [Там же: 152] — что совершенно верно. Это — разведение Природы и Культуры, опосредованное социальным статусом той и другой. Остальные фазы «семиотического цикла» авторы представляют в такой последовательности:
1. Целостное нерасчлененное апофатическое переживание;
2. Распад единства под действием отчуждающей рефлексии;
3. Первичная семиотизация в замещенной форме («имянаречение»);
4. Обретение адекватного кода;
5. Окончательное смещение к знаковой структуре;
6. Замыкание знаковой структуры полностью в себе.
«Семиозис всегда догоняет» — но что? Он догоняет жизнь.
Все этапы пройдены русским языком, оформившим национальную ментальность. При этом социально-национальные формы выработаны в эпоху Средневековья, а верхние уровни «семиозиса» формировались в Новое время. Так сложилась триада «интуиций» русского подсознательного, которую Николай Лосский назвал (сверху вниз) интуицией интеллектуальной, мистической и чувственной, а Иван Лапшин (соответственно) — инспирацией, интуицией и инстинктом. В таких определениях легче постичь сущность русского разума. Во всех случаях это именно интуиция, которая охватывает все уровни «семиозиса», но каждый из них отличается видом на общем роде интуиции. Это восхождение от вещи к идее, как оно представлено исторически.
Особенности русского ума приводят постороннего наблюдателя в отчаяние. Иногда ему кажется, что ума-то и нет, в наличии нечто иное.
Таким «иным» представляется ум своеобразный, то есть, в понятиях западного человека, опять-таки не ум вовсе. «Особое место среди этих оценок и установок занимает уникальный русский ум, инструмент для поиска выхода из сложнейших жизненных ситуаций. Не потому ли именно русские всегда были способны выживать в тяжелейших условиях, придумывая нетривиальные решения и используя их все не по назначению, но поистине гениально, не потому ли именно „русские мозги“ так высоко ценятся и представляют собой дорогостоящий, но искомый товар для цивилизаций, держащихся за прагматические принципы (номинализма. — В. К.)? И не в силу ли названных ранее причин русские сами не понимают или не желают понять, какой замечательной вещью они обладают, и не могут оценить ее по достоинству?» [Голованивская 1997: 163].
Понять-то понимают, как не понять... Оценить не могут: за морем товар лучше. Уж ежели там и бананы растут — что уж нам...
Что же касается «названных ранее причин», речь идет о понимании ума как инструмента или природного ресурса, как основы жизни, на которой стоит человек, как вместилища самых различных душевных свойств, включая совесть. «В современном языке... ум ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать решение, то есть порождать новое знание» [Там же: 158]. А это не разум, не рассудок, даже не мудрость, которые связаны с обыденными способностями наблюдать, сопоставлять и мыслить о вещах и событиях. Ум охватывает сферы идеи — тех высших сущностей, которые в случае необходимости способны направить человека на путь истинный. Душа и совесть — живые, они «переживают» и судят, тогда как ум кажется неодушевленным инструментом, чем-то вроде топора и пилы, с помощью которых можно прорубаться сквозь чащу или построить дом. Многие пословичные выражения наталкивают на эту мысль автора [Там же: 134—138]. Однако в подобном несходстве таится обман. Обманывает родовая принадлежность слов: душа и совесть женского рода, ум — мужского («женское, детородное, хаотическое, эмоциональное — основа жизни»). Именно такое впечатление и можно вынести из русских словесных форм. Русское сознание предстает одушевленным. А холодная деятельность рассудка ничем не одушевлена.
Вот почему «в русских умах есть какая-то философская свежесть» [Струве 1997: 265], и это, конечно, связано с языком. Еще Вильгельм фон Гумбольдт заметил, что «язык народа есть его ум, а его ум — его язык; мы никогда не можем достаточно постигнуть всю их тождественность».
Также и в интуиции русских философов XX в. можно заметить постепенно усиливавшееся отталкивание от традиционной троичности «ум—душа—дух» в пользу «этимологического», согласно номинации двоения «дух—душа». Впечатление такое, будто интеллектуальный компонент духовной троицы остается за пределами допустимых оценок.
Впечатление ошибочное.
На основании материалов «Толкового словаря» Владимира Даля показано [Фархутдинова 2000], что в русском представлении ум не только интеллектуальная, но и нравственная сила; ум — то, что делает человека личностью и предстает как «жизненная колея» (доходить до ума, сходить с ума и т. д.). Ум и есть, в конечном счете, душа, одинаково можно сказать чужой ум и чужая душа — и то и другое потемки. Ум определяет линию поведения, он может отчуждаться, как и душа, и в этом состоит подвижность и гибкость ума, дарованного человеку судьбой. В народной культуре «русский ум осмысляется как поведенческая категория» [Там же: 118]. Ум в проявлениях воли, тогда как разум понимается как простой рассудок, как способность к отвлеченной мысли, соотнесенная с памятью, понятием и суждением (у Даля это intellectus, Vernunft). Разум тут скорее средство, некое явление, а не сущность, тогда как ум, конечно, и есть душа.
Русский ум особенный. Даль говорит о нем, как о заднем уме. Русский человек «задним умом богат». Можно подумать, что задний ум всегда отстает от уже совершенного дела или испытанного чувства — осмысляет «задним числом» событие. Однако этнографы XIX в. показали, что в русском представлении задний ум объясняется скудостью специальных знаний, недостатком достоверной информации и даже отсутствием разделения труда. Современное о нем представление «как итог, который русский человек подводит в результате самоанализа» [Там же: 119] делает упор на рефлексию «самоедства» и представляется слишком натянутым, привязанным к узко интеллигентскому пониманию дела; это ведь интеллигент комплексует по всякому поводу. Задний ум у самого Даля скорее соответствует общему смыслу слова задний — то, что следует потом, а не сзади (задним умом догадлив — только после ощущений и чувства). Тут приводят и слова Лермонтова: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» — с запозданием развившимся? Пространственное задний заменено временным поздний. Но, как замечено, «русский народ, как и всякий народ, задним умом крепок» [Шульгин 1994: 193] — всякий народ; кроме того, критичность заднего ума не столь уж бесполезна, а слова Саваофа в древнем переводе Ветхого Завета: «Увидишь задняя моя!» — очень часто повторяли в средневековой Руси с амвонов. Для Михаила Пришвина [1986: 363] несомненно: