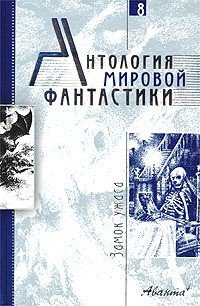Современная литературная теория. Антология - Кабанова И. В. (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
Но даже если «прекрасное подобие» искусства воплощает только свою собственную действительность, это подобие все же сохраняет зависимость от прозы реальной жизни, над которой необходимо подняться, которую надо преодолеть, чтобы освободить человека. Вот главный дефект гуманистической концепции искусства – в ней искусство имеет источником ту самую действительность, которую собирается устранить. Другими словами, искусство опирается на нечто себе внеположное, и к тому же отрицание этого внеположного составляет главную характеристику искусства как «прекрасного подобия жизни». Очевиден парадокс в основе искусства, которое приобрело в этот момент автономность. Всепроникающий, повсеместный характер описываемого парадокса становится ясным из привычных формул искусства как феномена прекрасного, волшебства, преображения, иллюзии и т.д. Все подобные формулы показывают невозможность для искусства освободиться от действительности, которую оно предназначено уничтожить. Вероятно, автономное искусство представляет собой не столько трансцендирование, преодоление действительности, сколько бегство от нее.
Эта точка зрения получила мощную поддержку начиная с середины XIX в. Мэтью Арнольд [17], который в свое время пользовался таким же авторитетом, как ранее Шиллер, писал: «Критика должна сохранять полную независимость от духа практицизма и преследуемых им целей». Это означало, что критик должен воздерживаться от «практической деятельности в политической, социальной и гуманитарной сфере, если он желает способствовать возникновению более свободного теоретического отношения к миру». Вместо того чтобы сопрягать искусство и действительность, критик должен развести их, с тем чтобы наделить искусство «действительностью», т.е. высвободить его из мира социально-политического. Но что именно в искусстве дает такую возможность и какими свойствами должно обладать это новое искусство, остается неясным, что явствует из библейской метафоры, которую Арнольд использует для описания положения критика:
Есть земля обетованная, на которую критик может только указать. Мы никогда не сможем достичь ее, нам суждено умереть в пустыне: но стремление к ней, хотя бы приветствие ей издалека, уже ставят критика на первое, высочайшее место среди его современников.
Итак, земля обетованная искусства – не более чем надежда, и религиозная риторика выдает стремление к спасению. По мере приближения конца века автономное искусство все более осознавалось как рай, придуманный для спасения от тягостей человеческого опыта; оно было призвано помочь людям забыть безнадежно сложный мир, в котором они обречены жить.
Эта функция искусства получила прямое признание в конце XIX в. в концепции «искусства для искусства». Уолтер Пейтер [18] подытоживает ее следующим образом:
Что ж! Все мы приговорены к смерти, только приговор отсрочен исполнением на неопределенный срок... у нас есть небольшое время, потом мы исчезаем с привычного места. Одни проводят этот отрезок времени в апатии, другие предаются страстям, мудрейшие среди «детей земли» заполняют его искусством и песнями. Потому что наш единственный шанс —продлить этот отрезок времени, прожить его как можно более полно. Повышенное ощущение жизни могут дать большие страсти, экстаз и горе любви... Только надо увериться в том, что страсть подлинная, что она в самом деле дает ускорение, преумножение сознания. Такой мудрости больше всего содержится в страсти поэтической, в желании красоты, в любви к искусству ради искусства. Потому что искусство предельно откровенно не предлагает никому ничего, кроме этих моментов высшего биения жизни в их мимолетности, и только ради самих этих моментов.
Тогда искусство есть реакция на подавляющее человека сознание краткости и бренности жизни; доставляя моменты восторга, оно может заставить человека забыть преходящую повседневность. Что в начале XIX столетия было обещанием свободы, на исходе века превратилось в стимул к экстазу. И неудивительно, что искусство этой эпохи замкнулось в башне из слоновой кости, ища спасения от низменной и подлой жизни.
Но этот уход от действительности показывает, что искусство как раз не было свободно от критериев практики, действенности, на которые оно так рьяно обрушивалось и устранение которых, по идее, должно было принести ему автономию. Бегство от гнета действительности в мир фантазии отвечает очень конкретным потребностям и обнажает очень реальные практические цели, достижение которых затрагивает глубинное противоречие, заложенное в концепции автономного искусства.
Здесь следует заметить, что автономное искусство – одна из концепций искусства, которая ни в коем случае не покрывает все произведения художников и литераторов XIX в. Сторонники и последователи романтизма постоянно воспроизводили ее в собственной художественной практике, тогда как значительная часть литературы создавалась в оппозиции к этой концепции. Но эффективность этой оппозиционной романтизму литературы определялась в значительной мере тем, что она шла наперекор установившимся ожиданиям. Эстетическое кредо XIX в. провозглашало освобождение искусства от социальной действительности; реализм и натурализм привлекали как раз бунтом против преобладавших вкусов.
Сначала эта оппозиция со стороны реализма и натурализма не влияла на признанную власть концепции автономного искусства, и так называемое «эстетское сознание» опиралось в своей аргументации на классические периоды литературы, чьи высшие достижения привели в XIX в. к созданию «религии искусства» (Гейне). Почва для нее была подготовлена состязанием социальных, философских, религиозных и естественнонаучных систем, каждая из которых в то время претендовала на формулировку окончательных истин о мире. Искусство стояло выше всех этих попыток объяснения мира, потому что по своей природе оно открыто областям за пределами эмпирической действительности. Именно это свойство искусства возвысило его до положения религии, искусство поднялось над отдельными спорящими между собой системами. Но религия искусства не смогла дать людям нового откровения; преодоление действительности обернулось эскапизмом; обещание удовлетворить духовные потребности сделало эти потребности еще более жгучими. Но где еще, помимо искусства, могло осуществиться мирское преодоление действительности в постпросветительскую эпоху? В результате искусство более, чем когда-либо ранее, стало зависимым от действительности, которую оно вознамерилось демонтировать.
С самого начала противоречие между искусством и действительностью усугублялось потребностью конкретизировать концепцию автономного искусства. Ведь искусство претендовало на то, чтобы стать царством свободы, в котором только и возможно человеку облагородить свою природу. Но если путь к подлинной человечности лежит через Искусство, тогда Искусство, лежащее в основе воспитания, не может оставаться абстракцией. Как в таком случае конкретизировать, воплотить то, что существует только преодолением своей противоположности?
Ответ был: следует собрать все великие достижения искусства прошлого. Так возникает типичное учреждение XIX в. – музей. Изначально коллекции отражали личные вкусы своих владельцев; теперь множественность вкусов нуждается в объединении под эгидой концепции вкуса как нормативного авторитета. И произведения искусства были извлечены из их церковного или светского окружения и свезены в музей. Вот это «абстрагирование», это извлечение вещи из ее исторической среды отныне и придает ей статус «произведения искусства». Как образец, представляющий нормативный вкус, произведение должно воздействовать исключительно само по себе, а не благодаря каким-то своим практическим функциям. Поэтому когда Дюшан [19] выставил в музее подставку для винных бутылок, все были шокированы: ведь музей был окончательным триумфом автономного Искусства, потому что вырвал произведение искусства из исторического контекста и наделил искусство любых прошлых эпох свойством современности, так что из сопоставления всех произведений можно было вывести единую, универсально значимую норму художественного.