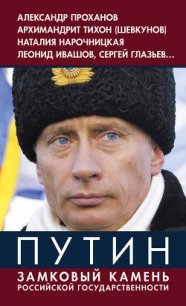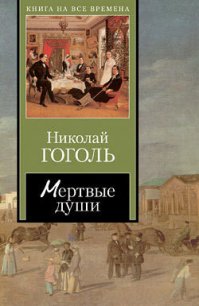Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Уйти, убежать, отстраниться от неприемлемого духовно, выпасть из времени своего с тем, чтобы ощутить другую форму переживания — не во времени, а в пространстве, в движении, которое может хоть отчасти заменить косную материю быта. Самый свободный человек на земле, духом он выше земного. Странник живет в разлуках, а идею разлуки представляют как одну «из самых освоенных в русской культуре эмоциональных областей», ведь «это идея независимости от человеческой воли. Это весьма характерная русская идея» [Анализ 1999: 61—62].
Современный философ тонко подметил эту связь странничества с простором земли, с избытком: «повсеместное пьянство — это тоже путешествие и странничество» человека, насильно привязанного к этому месту [Горичева 1996: 254]. Для России утрата пространств — трагична, и бегство ее — в скорости восполнить утрату простора. Странник идет по наитию души — спасаясь. Скиталец скитается в поисках утраченного, поскольку русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться; дешевле он не примириться, — конечно, пока все дело только в идее-теории. Это всё тот же русский человек, как мы его ни назовем. Но только странник уходит от,.. тогда как скиталец идет к...
И где сходятся их дороги?
Сирота казанская тоже русский тип. Это символ покинутости и одиночества, сложившихся в силу судьбы, не по воли твоей; единственно что твое — ощущение покинутости, и народ припечатал такое крепким словом: брошенка.
Беспомощный, бесприютный, брошенный... но казанская сирота совсем не такова. Это «плут, прикидывающийся бедняком», как говорит нам Даль; бывшие татарские князья, переходя на службу к русскому государю, прикидывались бедняками, чтобы крупней получить удел. Так и побирушки-нищенки притворяются сиротами, отложив на черный день хороший куш. Здесь мы встречаем ту же амбивалентность всякого символа, какая присуща любому русскому типу. Словом можно назвать и это и то, одним и тем же словом; но чтобы идея проросла в реальности смысла, необходимо ее соотнести с действительностью конкретного лица или вещи. Идею проверяют вещью, и только после этого станет ясно, о какой такой сироте заводится речь.
Исторически этот тип как социальный связан с распадом феодального строя, с выходом из неволи, с прочими явлениями жизни в миру. Это пример того, как термины семейного права становились терминами для обозначения социальных отношений.
Хорошо сиротство в исконном его смысле понимают женщины. «Сиротство — это парадоксальная изнанка сыновства... Сиротство — лишь ступень к лучшему осознанию своей непокинутости» [Горичева 1996: 131—132]. Непокинутость — еще не одинокость. А русские мыслители всегда различали одиночество и одинокость. Одиночество человека, говорили они, в том, что у него слишком мало отношений с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания и связанных с этим симпатии, дружбы, любви. Такой человек не формирует свою личность в общении, ибо не обращен вовне, не растет душевно. Одиночеству противостоит не-одиночество. Одинокость же — та самая покинутость, о которой здесь речь. Одиночество человек выбирает сам, одинокость ему достается судьбой. Особенно важна отрицательная ценность одинокости в обществе, которое основано на идее соборности, на единстве, на общине.
Русское юродство — восстание против идеи, возвращение в теплую плоть земли, из которой восходит колос новой идеи. Вхождение в тайну концепта, который выше и глубже всякой земной идеи. Освобождая свое подсознание, юродивый отчужден от сознания рядом толкущихся лиц. Потому так бесстрашен юродивый, что он — инверсия святости.
Он ничего не боится, ибо уже вернулся к исходной точке своего бытия, у которой что жизнь что смерть — всё едино. Он ничего не страшится, ибо познал суть жизни, на фоне которой всё прочее только подмена и тлен. Он свободен «от необходимости соблюдать логическую связь» между идеей и вещью: для него реализм абсолютен: идея и есть вещь. И находясь в этой точке разлома между бытом и бытием, между миром и небом, между идеей и вещью, он вне времени и пространства. Пространства нет, потому что точка разве пространство? Времени тоже нет, поскольку вечность постигнутой истины исключает ее привязку к надуманным человеком границам времен. В точке настоящего сошлись прошедшее и будущее, и всё это вместе — время настоящее, действительное, истинное; юродивый прорицает, ибо находится в этой точке, невидимой никому, но доступной его взгляду. Идея и вещь для него — одно, и потому он обычно бос и гол: в дождь и в снег, и в палящий зной — он отверг вещность быта; он не нищенствует, не просит, он отвергает деньги и всё, что «от бесов».
Но юродивый — человек, плоть его жаждет пространства и времени. Свою «идею», свой взгляд поверх плоти и жизни он хочет открыть и означить смыслом. И тогда пространством его становится широкий простор, обретенный в пути; его временем — перемещение предметов и лиц на его пути. Это — время встреч и событий, его создает ритм движения. Юродивый не по воле пополняет ряды «мятущихся меж двор», как выражается о юродивых старинное житие; это его призвание, и с жезлом-посохом идет он по миру как неотмирный человек. Справедливо сказано, что «уход в идею — это то же затворничество, оно синонимично странничеству» [Иванов 1993: 22].
Интересно сравнить юродивого с близкими к нему по проявлениям духа типами. Такое сравнение часто делали ([Лихачев, Панченко 1976; Иванов 1993]).
Пытаясь аналогией объяснить тип юродивого, его представляли как человека со странностями, сумасшедшего, слабоумного, дурака, блаженного, бесноватого, опьяненного, шута, но также сравнивали со святым, подвижником, нищенствующим во Христе, со скоморохом, с ребенком...
Точки сближения со всеми ними имеются. Как и подвижник-святой, юродивый соединяет культуру народную и церковную, тем самым возвращая к жизни образ языческого волхва. Как и ребенок, юродивый отличается искренностью и достоинством. И так далее. Но любая попытка описать символический тип посредством логических предикатов обречена на провал. Конечно, юродивый странен, блажит (Василий Блаженный), «не в себе», он смешит и словом и телом. Он точно похож на Ивана Дурака, но дурак из сказки себе на уме, а юродивый ум отверг — сознательно: его протест против всего людского включает и протест против «здравого рассудка».
И кто же в здравом уме берет на себя ответственность за чужие грехи и болеет за всех, в страдании духа и плоти вынашивает в сердце своем спасающую идею, столь близкую к тайне концепта, что кружится голова (странный, пьяный)! Самоуничижение, смех над самим собой, полное горе от ума, ибо главное для юродивого — скрыть свой ум в потаенном символе — в слове, поскольку слово, заметил Бахтин, «стремится к юродству», да и само юродство фактом своего бытия есть слово, сказанное вещно и, главное, веско.
Да, отличительные признаки странности в юродивом есть, но существуют они в нем все вместе и потому соединены как целое совершенно в другом их качестве, они оборачиваются своей изнанкой. Юродивый — носитель идеи, инвариант того странного мира, который и в жизни переполнен «странными». Он идея такой странности, идея, воплощенная в них всех.
На это указывает уже само слово.
Церковнославянское юрод = русскому произношению урод: таков уродился. Духовный изгой, изгой добровольный. Как слово изгой общего корня со словами жизнь, житие, живот (древнее чередование звуков в корне goi: гой ecu, добрый молодец!), так и наше слово восходит к корню род. Юродивый живет вне рода как особый его вид, имеющий его личины.
«В русском языке существует три понятия для определения таких людей... убогий, юродивый и блаженный» [Ильин 6, 3: 83]. Три ступени в проявлении христианской нравственности отрекшихся на деле от мира сего. Лишенный мирского в теле (убогий убог), в слове (юродивый гугнив), в мысли-разуме (блаженный блажит). «Озорство это или своенравность? Легкомысленное расположение духа или глубокомысленное символическое поведение? Простое человеческое коварство или погружение в животное скудоумие? Игра это или всерьез? Всечеловеческое это или божественное? Запрещать это или воспринимать с благоговением? Мирская ли это болезнь или божественный знак?» [Там же: 85] — вопросы все риторические, тем более, что сам Ильин на них отвечает тут же: всё это проявление свободы духа по-русски, в доступных общественных формах.