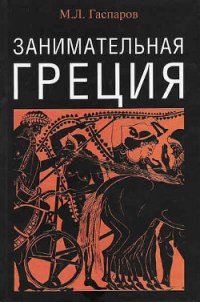Избранные статьи - Гаспаров Михаил Леонович (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
11. Рильке. Таким образом, отождествление «гостя» так и остается неоднозначным. Можно лишь сказать, что подсказанный ПК образ Рильке может служить общим знаменателем для всех трех намеченных вариантов: он и партнер по любовному свиданию (хотя бы «душ»), и умерший ближний как вестник смерти, и, почти без натяжек, цветаевское второе «Я» [113]. Но прямых указаний на Рильке в тексте ПВ нет, поэтому вводить этот образ в нашу интерпретацию мы не вправе; в дальнейшем мы будем его называть «двойник» или «спутник». Интересно было бы сопоставить ПВ, ПК и Н с двумя «Реквиемами» самого Рильке; но это (как и весь вопрос об истоках цветаевской мифологии в ПВ) выходит за рамки нашего разбора.
12. Душа. Нарастающая интериоризация признаков хозяина (зов — бденье — терпенье — стук сердца), гостя (полон покоя — полон терпенья — живой или призрак) и причин спокойствия гостя (уверенность в слухе и сроке — уверенность в ухе ответном — заведомость входа — презрение к чувствам) вплотную подводят к следующему члену: «Душа без прослойки чувств. Голая, как феллах» (Восток как чистая духовность — отголосок «Крысолова», ср. ниже п. 20). По логике параллелизмов, эти слова относятся тоже к гостю: гость и есть душа. Это не четвертый вариант отождествления героя, это лишь уточнение третьего варианта: из двух полярных «Я» героини ожидающим является тело, а приближающимся — душа. Получается любопытное выворачивание наизнанку обычного представления: смерть — это не «когда душа разлучается с телом», а «когда душа соединяется с телом». Отметим две характерные двусмысленности. (1) «Презрение к чувствам» — сперва кажется, что имеются в виду чувства-эмоции («над миром мужей и жен»), потом — что чувства-ощущения («отдавшая даже звон»); может быть, это взаимопродолжение: сперва отречение от чувств-эмоций, очищение до монашества, а потом — от чувств-ощущений, еще дальше. (2) «Пол плыл» — по аналогии с ПК (от «Ну, а пол?.. — Был. Не всем…» до «Пол же — что, кроме „провались!“ — полу?..») здесь имеется в виду, несомненно, не только пол — половицы (ср. «ног под собой не чуять»), но и пол — секс («свиданье душ»): т. е. это тоже часть отречения от чувств.
13. Схождение и восхождение. Итак, героиня и ее двойник из-за двух сторон двери соединяются в разрыве магнитного кольца и отсюда начинают восхождение, а потом вознесение к богу сквозь семь небес. Восходящие названы словом «мы»; бог, к которому они восходят, — словом «ты». В этом «мы» самое примечательное — быстрое и незаметное исчезновение двойника: он то ли сливается с героиней, то ли растворяется в темноте («вдоль стены распластанность чья-то»). Переведя через порог и указав путь, вестник исчезает за ненадобностью: героиня еще чувствует его присутствие, но идет уже одна («мы, а шаг один»). Впрочем, если бы и вдвоем, это был бы шаг двух одиночек: к богу все восходят только поодиночке, хотя бы и за кем-то вслед. Что «ты» — это бог, почти не вызывает сомнений. Подъем идет «в полную божественность ночи», «ты» находится наверху, поднимающийся просит или облегчить ему подъем, или «снизиться» на свою державу «мыслителей», «сдаться на вздох» всего сущего. (Бог как мысль, бог как Не-сущий, — об этом см. ниже, п. 31–32). Попутный образ «Еврея с цитрою взрыд: ужель оглох?» — это, почти бесспорно, Давид-псалмопевец. Если так, то и «Сню тебя иль снюсь тебе — сушь, вопрос седин лекторских» (разница между субъективным и объективным идеализмом) — фраза, вполне уместна в этом контексте.
14. Сон. Этот мотив упоминается в ПВ лишь дважды: здесь и в отр. II («Сон?.. А в нем? под ним?..»); кроме того, слова «над миром мужей и жен» были реминисценцией из стихотворения 1924 г. «Сон». Но небезразлично, что он уже был подробно разработан в ПК (от «В пропастях под веками некий, нашедший некую» до «в первом сне, когда веки спустишь, это я на тебя…») и непосредственно перед тем в «С моря» (еще не к заочному Рильке, а к заочному Пастернаку, но образы те же: «Из своего сна прыгнула в твой. Снюсь тебе. Четко?..» и т. д. до «Давай уснем… Ведь не совместный сон, а взаимный: в боге, друг в друге… Выходы из — зримости»). Эта тема взаимного сновидения, разговора через сон явно тоже перекликается с «сню тебя иль снюсь тебе».
15. Развоплощение. Тема «душа без прослойки чувств…» здесь детализируется: как отречение от зрения, от слуха, от осязания. Тот свет — внечувственный («в полную невидимость…»), вне времени и пространства («в полную неведомость часа и страны…»). Отречение от зрения описано подробнее всего: «Расцедив сетчаткою…» и т. д. (ср. ниже п. 21). Отречение от слуха дано менее отчетливо: от «лиственниц шум, пены о мост» (с неслучайным перебоем ритма и диссонансными рифмами) до «услышана: больше не звучу». Отречение от осязания, по-видимому, заключено в темной до загадочности фразе «не то, что дыры в них, — стыд…»: не то стыдно, что башмаки дырявые, а то стыдно, что приходится их чинить; шаг есть осязание башмаками лестницы, земли, и не то жалко, что порой это осязание исчезает, а то, что нельзя сбросить его, отречься от него совсем. Как шаг есть осязание земли, так вздох — осязание воздуха; отсюда завершение: «больше не дышу».
16. Сопротивление воздуха. Отрывок 1 кончался напряженностью перед встречей с гостем; отрывок II начинался ненапряженностью, «естественностью», «застоем»; в отрывке III ее сменяет новая напряженность, но уже радостно-гармоническая: «полная срифмованность, ритм, впервые мой» («тот свет», в котором, по Цветаевой, поэт — отроду свой). Ритм — это еще не слияние и растворение, но это борьба на равных, чередование напоров и отпоров, и она отрадна («противу — читай: по сердцу»). Борьба эта идет против сопротивления воздуха: за всходом по лестнице — всход по воздуху. (Примечательна двусмысленность: «ходячие истины забудь» — не только «привычные» истины, но и «относящиеся к ходьбе»). Переход от «шага» к «вздоху» постепенен. Сперва речь идет о сопротивлении снизу, как при настоящем шаге: «с сильною отдачею грунт». Дальше два неожиданных образа (как бы «смерть» и «новая жизнь»): женская грудь под сапогом солдата, который раздавливает ее, несмотря на ее упругое сопротивление, и под «стопками» младенца, который, играя, ходит по лежащей навзничь матери, и она вздымает его, несмотря на его давление. (Опять двусмысленность: «отдача» оружия или преграды при толчке — душевная отдача матери ребенку.) Затем, через обоюдозначные выражения «в тугом шаг», «не удобохож путь» речь переходит к сопротивлению спереди — как при вздохе, как при ветре в лицо. Это «сопротивление [воздушной] сферы» сравнивается с сопротивлением стеблей идущему через рожь или рис и с сопротивлением Чермного моря «сплечению толп» Исхода (исхода из жизни, как из плена). Итог двум сопротивлениям — в словах: «Землеизлучение. Первый воздух — густ», мы еще в околоземной атмосфере.
17. Творительный падеж. Здесь в поэме впервые появляется творительный движения через пространство: «сопротивлением сферы», «тобой, Китай!» (как бы: «как сквозь рожь русскую, как тобой, Китай, с твоим отроду поглощаемым рисом, движемся мы…»). После этого он повторяется не меньше 20 раз вплоть до «…спазмами вздоха» (отр. Vila), т. е. до самого выхода из сферы воздуха, — и все эти 20 обстоятельств места опираются только на 2 (!) сказуемых — «все шли б и шли бы» (отр. V) или «чистым звуком движемся» (отр. VII). Столь обширная конструкция на столь малой опоре — типичная для Цветаевой гипертрофия стилистического приема.
18. Освобождение. Отрывок IV завершает отрыв от земли. Меняется точка зрения: до сих пор был взгляд восходящего ввысь, теперь — взгляд взошедшего с выси. Меняется сама возможность зрения («солнцепричастная, больше не щурюсь…»): после отречения от зрения — обретение нового зрения. Меняется адресат обращения — теперь это не бог вверху, а мир внизу («не жалейте!» и пр.). Радость освобождения показана через три уподобления: прорыв из осады («времечко осадное», воспоминание о Москве гражданской войны), прорыв из черты оседлости (осада и черта = война и мир, временное и постоянное, ср. «гетто избранничеств»), освобождение воздуха-духа из легкого-плоти. Обыгрывается противоречивость слова «легкое»: легкое как плоть есть тяжесть, каменный мешок; настоящая же легкость есть дух, есть «сам» летящий. Как для духа-вздоха легкое есть лишь бремя, так для летчика аэроплан есть лишь мертвая петля на человеческом порыве ввысь. Аэроплан — это дешевая победа над «воздухом низов»; а победа над воздухом вершин — это смерть, ей-то и учит истинный «курс воздухоплаванья». Смерть — не конец («ничего смертного в ней»), а начало настоящей жизни («где все с азов, заново…»).
113
Рильке перекликается и с «авиационной» темой ПВ — хотя бы 23-м сонетом к Орфею, близким по смыслу к отр. IV (но без мотива смерти).