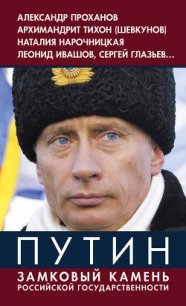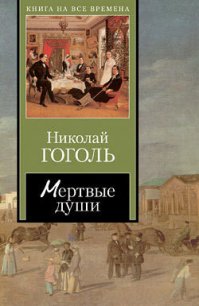Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Вот сказка. «Русская сказка подобна пророчески заклинательному распеву; она проникает в сердце человеческое... сказка есть одновременно искусство и магия», — говорит Иван Ильин [6, 3: 36]. Сказка повествует о русском в ключевых понятиях его ментальности, в главных символах его духовности. «И как в самом русском человеке всегда есть что-то детское, так просматривается оно и в его сказочных героях: они всегда по-детски храбры, по-детски без оглядки доверчивы, по-детски чистосердечны и так же легко плачут, когда наступает час безысходного горя. Они добродушны, эмоциональны, отзывчивы, кротки, скромны, духовно подвижны, склонны к импровизациям, а своим непринужденным плачем напоминают древнегреческого героя — отважного и хитрого Одиссея» [Там же: 46].
В сокровенном смысле русской сказки находим ответы на вечные вопросы: что такое счастье, что такое судьба, существуют ли в жизни злые силы, куда ведет кривда и что такое люди. «И, наконец, чисто философских и природоведческих вопросов касается сказка: правда ли, что лишь возможное возможно, а невозможное исключено? Не таятся ли в нас и вокруг нас, в вещах и предметах, такие скрытые возможности, что о них даже думать никто не решается?» [Там же].
Корнем сказки всегда являются концепты национального сознания, потому что и слово сказ прежде всего значит: раскрытие тайного в магии слова. Открыть сердце — высказаться и успокоиться. Выразить заветное — и очиститься.
Иначе современный писатель. Он тоже маг, но — не верит в магию; он и пророк также, но пророк, не знающий пророчеств, им не верящий. Он не парит в абсолютной идеальности концептов, но облекает те же концепты в формы реальных лиц. Он создает не символ, как сказка, а — образ, тем самым пытаясь пре-образ-овать мир.
И тогда уже читатель, соучаствуя в творчестве, должен выявлять из текстов концептуальные «корни» сознания, которые автор разделяет со своим народом.
В отношении к романам Достоевского и Льва Толстого это сделали многие философы, мы не раз вернемся к их результатам. Здесь же для примера посмотрим, что на сей счет думает Иван Ильин [6, 3: 358 и след.; 464 и след.].
По мысли Достоевского, русский народ далеко не стадо, не толпа, не «масса». Русский человек предстает как самостоятельно отдельная личность, не испорченная душой, неприхотливая, склонная к милосердию, терпимости, всепрощению. Инстинкт «всечеловечности» позволяет ему распознавать суть дела и свято верить в то, что в глубинах сердца его сущность. Не «истина факта» и не «истина разума» у него на первом плане, но духовная «истина сердца». Поэтому-то герои Достоевского иностранцу кажутся чуть-чуть помешанными, ненормальными, не от мира сего. Но именно в таких их проявлениях заключается человечность и человеческое. Вглядывание в сущность помогает мысли и чувству ставить идеал выше всего мирского в явленности его. И страдания русского человека — все оттого, что не видит он соответствия между идеалом и миром, лада нет между ними, что-то неладно тут. И хочет он добиться этого лада, и рвется из потребности дойти до крайней черты, «заглянуть в бездну» — возможно, с тем «чтобы проверить себя самого, свою веру и свою совесть».
И поскольку не отдельный даже человек (люди-то разные, есть и другого склада, много чего намешано), а народ в целом устремлен к идеалу, то и «народ всегда прав» именно как народ. Как живое целое.
Полюс Льва Толстого совсем другой. «Он желал любви и ничего более», но любви особенной, не окутывающей всепрощением, мягкостью и лаской чувства, нет, любви «в рассудочно-логической мысли», рациональной. Не мучить человека (ибо страдание — зло), но сострадать ему, понимая, что счастье есть высшее благо, а ненависть и враждебность разъединяют людей. И этот полюс сходится с двуобращенностью русской ментальности одновременно и на идею, и на вещный мир вокруг. В своем творчестве лучшие художники слова раскрывали — неутомимо и настойчиво — основные концепты русской духовности, наполняя их живой плотью фактов и событий. Счастье, жизнь, мир, судьба, совесть... О чем еще они писали?
И становится ясным, что идеи и типы — одно и то же: типы характеров суть воплощенные идеи.
В каждом человеке присутствует ныне сложная смесь всех описанных черт — идеальных в типе; но цельности типов теперь уже нет; быть может, они сохранились как образы только в классической русской литературе (реализм), иногда в особенно резком виде, как у Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Достоевского (запредельность рассудочного: в описании ликов побеждают личины и временами вовсе нет лиц — действующих лиц). Но таково со-бытие культуры: увеличивается разнообразие личностных вариантов в зависимости от того, как и в каких условиях происходит ослабление и распыление доминантных черт типа. Различные социальные роли (маски-личины) в различной их интенсивности и в разной сочетаемости признаков создают неустойчивый, рыхлый, дробящийся мир индивидуумов, которых соединяет в нечто общее лишь одно: ментальные образы внутренней силы, схоронившиеся в языке.
Русский, говорит Ильин в этой связи, основательно докапывается до всего, себе самому задавая «предельные вопросы», и, пропуская их через созерцательное сердце свое, облекает в совершенные формы как вызревшие идеалы всемирного значения. Потому что «художественная форма вырастает у русских из содержания». Содержательная форма и есть искомая сущность русского характера. Многих, сложных, противоречивых и разных — характеров. «Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров», — сказал Гоголь некогда и тем самым выявил глубокое своеобразие русского человека как типа.
Отсутствие инварианта, нормы, стандарта не есть отсутствие общего, нормального или устойчивого. Думать так было бы ошибочно. Инвариант не форма, а содержание, смысл, обычно сокрытый в глубинах народных концептов. Суровые условия природной и социальной жизни выработали разные типы личностей и их переменчивых вариантов, как бы с запасом на прочность: а вдруг понадобится и тот и этот — все погибнут, всё переменится, а мы — спасемся?
Итак, древнерусское обозначение типов по телесной внешности — лице — соответствовало тем идеологическим установкам, которые тогда главенствовали. Это номинализм аристотелевского типа, озабоченный наполнением объемов понятия (ментализация символа) путем накопления «лиц» в определенной социальной среде: дружинник, монах, ремесленник... Здесь нет идеальных лиц, потому что правит совершенно иная идея: прагматизм свершения дел — ментальность.
Идеология реализма с XV в. направлена на поиск идеалов, которые могли бы стать содержанием вновь созданных христианством понятий.
Ментализация сменилась идеацией, основная цель которой состоит в выявлении ликов из массы развившихся лиц. Народная духовность кристаллизует лики героя и святого, народная поэзия одухотворяет их образы, создавая творческий портрет героического и праведного. Именно XV в. — время «возрастания святости»; именно XVI в. — время сгущения эпоса, заквашенного на памяти о героях прошлого. Заимствованная символика эпохи ментализации (Древняя Русь) обогащается народными образами эпохи идеации. Это уже не дело-вещь, как прежде, а идеальная мысль о них же.
Но жизнь продолжается. События XVII в. внесли поправки, возникла необходимость согласовать объемы понятий с новым их содержанием, и с середины XVIII в. в течение столетия происходит их совмещение, идентификация понятий в слове. Но при этом изменяются сами «типы» — уже не физически определенные лица и идеальные их лики, а социальные роли известных типов — личины-маски. Они дробятся все больше, в напряженном столкновении лиц-объемов и ликов-содержаний выявляя внутреннюю свою несводимость: простец и простак, мастер и мастак, мудрец и дурак — в разных проявлениях личной маски.