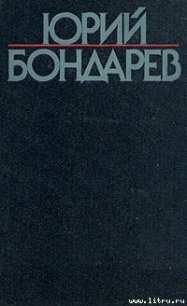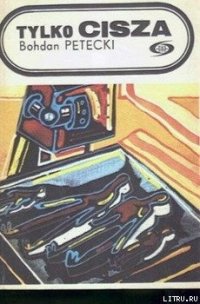Матросская тишина (Моя большая земля) - Галич Александр Аркадьевич (серия книг TXT) 📗
– Яички каленые, яички!
– Варенец, варенец!
– Покупайте яблоки, братья и сестры! Давай налетай, полтора рубля штука, на десять рублей…
Но поезд, не останавливаясь, проносится мимо. Замирают вдалеке голоса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыхаясь и захлебываясь слезами:
– А-а-а!.. Не хочу, не хочу!.. А-а-а!..
Людмила (поспешно встала, прошла в конец вагона). Что с вами, Каспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, голубчик! Нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..
Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит Иван Кузьмич Чернышев – в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.
Чернышев. Людмила Васильевна! У вас радио включено?
Людмила. Нет, товарищ начальник… А что? Письма из дома?
Чернышев. Сообщение Информбюро. Сейчас должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в неисправности – я не все расслышал! (Положил руку Людмиле на плечо, тихо проговорил.) Держитесь, дружок, на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!
Людмила. Стараюсь! (Позвала.) Ариша! Включи радио!
Санитарка. Письма из дома?
Людмила. Сообщение Информбюро.
Санитарка. Ой, сейчас, Людмила Васильевна! (Включает репродуктор.)
Тишина. Стук метронома.
Чернышев. Как Давид?
Людмила. Плохо.
Чернышев (наклонился к Давиду). Здравствуй, братец. Здравствуй, Давид… Это я – Чернышев… Ты слышишь меня?
Молчание.
Людмила (тихо). Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..
Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора:
«От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октября, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населенных пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбиннен и Гольдап… Наступление продолжается!..»
Гремит марш.
Чернышев (взмахнув рукой). Товарищи! Вот… Вот… Что мы сделали! (У него перехватило дыхание.) Я поздравляю вас!.. Вот… Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!
Гремит марш. Постукивают колеса. Протяжно гудит поезд.
Занавес
Действие четвертое
Середина века. Москва. Май месяц.
Точнее – девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз отмечаем мы День Победы – день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.
А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы приезжих и москвичей неутомимо бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва, уходили на целину комсомольские эшелоны – развевались знамена, гремели оркестры на привокзальных площадях, молодые голоса запевали старую песню – все ту же самую, что пели когда-то и мы, старшие, уезжая на Магнитку и в Комсомольск:
И все чаще и чаще в эту весну бывало так: люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но все не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задохнувшись: «»Это ты?! Ты вернулся?!»
Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами.
Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно, как шмель, гудит самолет.
Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздается веселое, нахальное треньканье велосипедных звонков.
Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать – хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.
В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня. Рядом, на стуле, – Чернышев.
Он выглядит необыкновенно торжественно и парадно, в белой рубашке с галстуком, над карманом пиджака – орденская колодка. На низком круглом столике – какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки.
Таня и Чернышев, надо полагать, уже выпили, и поговорили, и повспоминали, и теперь Чернышев, разомлев и расчувствовавшись, поет, а Таня плачет. Она не всхлипывает, не закрывает лицо руками, она даже улыбается, слушая Чернышева, но по лицу ее катятся частые крупные слезы, которые она время от времени с досадою смахивает кончиками пальцев.
Чернышев (покачивается на стуле, поет).
Таня. Не «гаснет», а «бьется».
Чернышев. Что?
Таня. Не «гаснет в тесной печурке огонь», а «бьется в тесной печурке огонь».
Чернышев. Не имеет значения! (Потянулся к бутылке.) Давай еще?
Таня. С ума сошел? Я уже и так совсем пьяная.
Чернышев. Праздник же.
Таня. Хватит! (Вскочила, убрала бутылку и рюмки.) Людмила приедет, увидит – убьет меня.
Чернышев. А если не приедет?
Таня. Ну, не знаю. Она была на вызове, но я просила передать, что звонили из дома… В котором часу салют?
Чернышев. В десять… Татьяна, ну давай еще по маленькой.
Таня. Нет. Ты, милый мой, становишься к старости пьяницей!
Чернышев. Так ведь праздник… День Победы!
Таня (нараспев). Праздник, праздник, праздник! Из-за этого праздника я сегодня с утра реву… Чай будешь пить?
Чернышев. Не хочется! (Презрительно сморщился.) Чай!
Татьяна подходит к двери в соседнюю комнату, чуть приоткрывает ее.
Таня. Давид, хочешь чаю? (После паузы, не расслышав ответа.) Я спрашиваю – ты хочешь чаю?
Из соседней комнаты слышен голос: «Нет».
Таня (закрывает дверь). Как угодно!
Чернышев (усмехнулся). Очередной разрыв дипломатических отношений?
Таня. Холодная война.
Чернышев (понизив голос). Слушай-ка, у него все еще продолжается эта переписка?
Таня. Кажется! (Прошлась по комнате, остановилась у открытого окна, вздохнула.) Ох, Ваня, если бы ты только знал, до чего мне все надоело! День за днем – консультация, суд, арбитраж. И все дела какие-то унылые… А тут еще теперь – выяснение отношений!
Чернышев. Он тебя просто ревнует.
Таня (хмыкнула). Было бы к кому! Ну, ничего! Скоро я, слава богу, уеду. Мне с конца месяца дают отпуск.