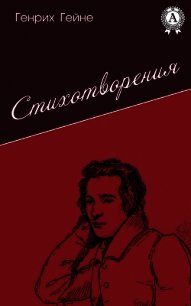Стихотворения. Поэмы. Проза - Случевский Константин Константинович (книги бесплатно .TXT) 📗
Проза
Черная буря
Мурманское становище, из которого туманным утром должна была выйти в море поморская шняка [8], притаилось в одной из небольших бухточек побережья, недалеко от Семи Островов. Это одно из очень мелких, неудобных становищ, потому что бухточка открыта всем решительно северным ветрам; но становище насижено исстари, чуть не со времен новгородцев, и оживляется, с приходом поморов, каждым летом. Единственная защита бухточки состоит в том, что по самой средине входа, со стороны океана, входа, имеющего ширины не более ста сажен, поднимается со дна морского конусообразная, довольно хаотическая, груда черных скал. Острие этого конуса состоит из громадных глыб, налегающих одна на другую, по-видимому, очень неплотно и оставляющих даже большие дыры, просветы; но глыбы держатся, слиты воедино, прочнее всякого цемента, собственною тяжестью; этот незримый цемент держит их неколебимо. В просветы сквозит иногда солнце, смотрит месяц, а набегающая океанская волна дает тут целые сонмы водопадиков и пускает фонтанчики.
И черны эти глыбы гранита, черны невероятно. Эта чернота мурманских скал, которые только изредка обнажаются от океанской воды, удивительна. Открытые ветрам, не покрываемые водою, скалы мурманского побережья в общем розоваты, тогда как их собратья, предоставленные вечным, неистовым бурунам волны, словно обуглились. Они, будто цыганки, обожжены страстью горячего, степного солнца и, как цыганки, почти обнажены. А ведь это на глубоком севере.
Выгода бухточки, в которой стояла шняка, состоит именно в этой гряде скал, разбивающей всякую волну, идущую из океана; скалы пропускают ее мимо себя, сквозь себя, ослабленною, разорванною, подрезанною, и, в то время как другие, соседние волны, движимые могучим дыханием, лезут высоко, высоко на отвесные берега побережья, волны, зашедшие в глубь бухточки, сравнительно спокойно ложатся на береговые пески.
В бухточке могут разместиться три, четыре шняки, не больше. Хотя о полном спокойствии стоянки тут, при северных ветрах, не может быть и речи, но волны бухточки, качающие шняки на дрянных якорьках, все-таки ничто в сравнении с ветром, обдувающим их снасти, потому что каменная гряда у входа в бухту ветра не ослабляет, не подрезывает, и он врывается сюда с полною силою, дует всей грудью. Становище, то есть деревянные домишки и сарайчики его, пронизывается насквозь.
Но помор заботится больше о своих шняках, чем о себе: если их не разобьет, то ему до своей личности дела нет. Пусть продувает ветер, обжигая лицо и окостеняя руки, пусть негде помору обогреться, пусть гудит заунывный посвист и проникает к нему даже в видения сна, лишь бы цела бы его шняка.
Бесконечно долгое утро не отгоняло тумана и тянулось холодное, мглистое. Июнь задался на этот раз далеко не теплый. Солнца не видно было за многими слоями серых, свинцовых туч, густо и низко налегавших на серый, свинцовый, как они, океан. Кто кого окрашивал в серый цвет: океан тучи или наоборот? Белыми точками виднелись по этому томительному однообразию серого цвета быстро реявшие чайки; крик их был так же резок, как и изломы полета: в крике, как и в полете, было что-то томительно беспокойное, заунывное.
Ночевало в бухточке три шняки; две давно уже вышли в море, третья запоздала, но тоже готовились выйти, и весь экипаж ее — законных четыре человека поморской, шнячной артели имелись налицо и, видимо, торопились. Опоздала шняка по вине артели; но был еще и другой виновник — одно из неприятнейших млекопитающих мира, бог весть как зашедшее в Мурман, — крыса. Крысы перегрызли запасный якорный канат, да еще в нескольких местах; каната раньше не требовалось, его не осмотрели; пришла нужда — увидели, и, пока производилась починка, шняка опоздала. Артельщики-покрутчики могли бы, конечно, осмотреть все свои принадлежности раньше, в свободное время, но поморы — русские люди, и время было потеряно.
— И откуда их, этого проклятого гнуса, крыс, — говорил старик, хозяин шняки, — у нас, на берегу, завелось?
— Мать говорила, что их тут прежде не бывало, — ответил зуек [9], парнишка лет двенадцати, необходимый участник артели, будущий бесстрашный помор, подбиравший в кадушку наживку, мелкую рыбку-песчанку, приготовленную ранее и уже почти всю доставленную в шняку; он подбирал тех рыбешек, которые были разбросаны при переноске и валялись по пестрому щебню побережья.
Крупный помор, по имени Вадим, разбойный человек, много лет ходивший на морского зверя, то есть на разбойный промысел, проходя мимо мальчишки-зуйка, оперся на него рукою и пригнул к земле, так что парнишка даже крякнул; это была ласка. Вадим поддерживал мнение зуйковой матери, что крыс на Мурмане прежде не бывало.
— С норвежцем вместе пришли, да и хозяйничают, — заметил Вадим.
— Сам ты норвежец, — громко ответил ему зуек, оправившись от могучего надавливания руки Вадимовой.
Вадим остановился, повернулся к зуйку лицом и молча погрозил ему кулаком. Зуек точно ушел в свою песчанку и стал подбирать ее еще тщательнее, еще торопливее.
— Ну, скоро ль? — обратился к нему хозяин. — Безорудь ты этакая! — На местном наречии это значило: параличный.
— Норвежец! — проговорил Вадим, грозя кулаком вторично. — Я те дам норвежец! — Он поднял с земли, с необычайною легкостью, пуда два бечевы, свернутой кольцом, и перешагнул с каменной глыбы к шняке.
Погода была тихая, но не обещала особенной устойчивости. Ветер дул с северо-запада, можно было рассчитывать на дождь; вечером веял ветерок южный, следовательно, шел он по кругу и легко мог стать и северным и северо-восточным, а тем более ничего ему не стоило вдруг покрепчать неимоверно и расстроить всякую надежду на успех лова.
Тем не менее выходить в море было необходимо, потому что люди знали, что треска идет, что к Семи Островам и к Лице шняки полными-наполно возвращались, а за всю весну наработано немного. Отдали клячь — веревку, служившую причалом, и направились из бухты.
Шняка была далеко не из молодых и видала всякие виды, но она была ходкая, юркая и хорошо слушалась руля. Значительно накренясь, вышла она в полветра, миновала гряду и направилась в открытое море. Кое-где виднелись другие шняки, выискивавшие хорошей стоянки. Все зависит от случая; на больших глубинах океанских ничего не разглядеть.
Поморы вообще не говорливы, но о том, куда направиться и где якорь бросить, все-таки говорили. Подросток-зуек оказался и тут советчиком.
— А у нас, — говорит, — в Сороках, мать сказывала, что ей странничек совет давал!
— Странничек?
— Где крест, говорит, выйдет — там и бросай, — добавил зуек.
— Как это крест? — спросил Вадим.
— А четыре щепышки или суковья малые взять надо, да по четыре штучки на воду и бросай, и гляди: где крест!
— А ну!
На грязном днище шняки всегда щепышки да суковья найдутся; все они словно пропитаны рыбьим жиром и поблескивают рыбьими чешуйками. Стали бросать на волны щепышку; больше для забавы, конечно, а шняка тем временем шла быстро-быстро, покачиваясь из стороны в сторону и описывая концами мачт длинные кривые.
Накренившись, скользила она по круглым скатам не крутых, но очень могучих волн. Крестики долго не вырисовывались щепышками. Принялись насаживать наживку. Легко сказать: на две тысячи и больше крючков по рыбке насадить! Не вся насаженная рыбешка сразу пооколела, и наживленные части яруса — так называется рыболовная снасть — пошевеливались под ногами поморов какою-то странною, мучительною судорогою, какою-то грудою безмолвных, шелестевших страданий.
К вечеру, на избранном месте, был брошен в море последний кубас, то есть весь ярус, длиною более версты, с наживленными двумя тысячами крючков, протянулся по океану, приманивая жадную треску. Выкинуть ярус надо много часов времени. К последнему кубасу, голомяннику, или кошке, привязали веревку, сажен в сто длиною, так называемую симку, а другой конец ее прикрепили к носовому штевню шняки. Глубина на этом месте оказалась около восьмидесяти сажен; хотя ночь была сравнительно светла, но о том, чтобы видеть берег, — не могло быть и речи.