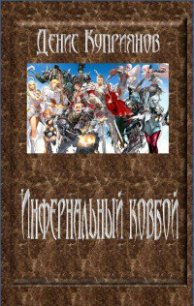Собрание сочинений. Том 1 - Симонов Константин Михайлович (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
Верно, был он героем, если столько о нем говорят:
как в их полк мать из дому, рыдая, писала о сыне,
как его гимнастерку надевал его младший брат.
Говорят,
его имя
дают городам
и рекам.
То жестоко,
то нежно
имя это звучит,
потому что в бою был он очень крутым человеком,
но к друзьям и к любимым по-детски был сердцем открыт.
Так был волосом рус он,
а глаза голубые,
так любим он везде был, где довелось ему жить,
что все девушки плакали,
даже чужие,
и все парни клялись за него отомстить.
Он лежит под землей на границе.
Но он сам - как граница.
Он лежит на орлином утесе.
Но он сам - как орлиный утес.
Он описан на книжных страницах,
но он сам - как живая страница.
Он убит.
Но довольно,
не плачьте -
он не хотел слез.
Он хотел,
чтобы, с глаз их рукавом сдирая,
шли вперед,
скупыми словами
написав о смерти жене.
Это он окровавленным пальцем,
заживо в танке сгорая,
"Большевики не сдаются"
нацарапал на дымной броне.
Но довольно о мертвых.
Мы живы,
мы победили.
Он был героем,
но все-таки -
лишь одним из многих других.
Говорят, при жизни в друзьях его
сходство с ним находили,
а если так,
значит, стоит
поговорить и о них.
Майор, который командовал танковыми частями
в сраженье у плоскогорья Баин-Цаган,
сейчас в Москве,
на Тверской,
с женщиной и друзьями
сидит за стеклянным столиком
и пьет коньяк и нарзан.
А трудно было представить себе
это кафе на площади,
стеклянный столик,
друзей,
шипучую воду со льдом,
когда за треснувшим триплексом
метались баргутские лошади
и прямо под танк бросался смертник с бамбуковым шестом.
Вода...
В ней мелкие пузырьки.
Дайте льду еще!
Похолодней!
А тогда - хотя бы пригоршню
болотной,
в грязи,
в иле!
От жары шипела броня.
Он слыхал, как сверху по ней
гремит бутылка с горящим бензином,
сейчас соскользнет.
Или...
Что или?
Ночная Тверская тихо шуршит в огне..,
Поворот рычага - соскользнула!
Ты сидишь за столом, с друзьями.
А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу к его жене,
отвозил ей часы и письма с обугленными краями.
За столом в кафе сидит человек с пятью орденами:
большие монгольские звезды
и Золотая Звезда.
Люди его провожают внимательными глазами,
они его где-то видели,
но не помнят,
где и когда.
Может быть, на первой странице "Правды"?
Может быть, на параде?
А может быть, просто с юности откуда-то им знаком?
Нет, еще раньше,
в детстве, списывали с тетрадей;
нет, еще раньше,
мальчишками, за яблоками, тайком...
А если бы
он
и другие
тогда, при Баин-Цагане,
тот страшный километр,
замешкавшись,
на минуту позднее прошли,
сейчас был бы только снег,
только фанерные звезды на монгольском кургане,
только молчание ничего обратно не отдающей земли.
По-разному смотрят люди в лицо солдату:
для иных,
кто видал его
только здесь, в Москве, за стаканом вина,
он просто счастливец,
который
где-то,
когда-то
сделал что-то такое,
за что дают ордена.
Вот он сидит, довольный, увенчанный,
он видел смерть,
и она видала его.
Но ему повезло,
он сидит за столом с друзьями,
с влюбленной женщиной,
посмотрите в лицо ему - как ему хорошо и тепло!
Да! Ему хорошо.
Но я бы дорого дал, чтоб они
увидали его лицо не сейчас,
а когда он вылезал из своей машины,
не из этой,
которая там, у подъезда,
а из той,
где нет сантиметра брони
без царапин от пуль,
без швов от взорвавшейся мины.
Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему:
оно было усталым,
как после тяжелой работы,
оно было черным,
в пыли и в дыму,
в соленых пятнах
присохшего пота.
И таким
усталым и страшным
оно было тридцать семь раз
и не раз еще будет -
"если завтра война",
как в песнях поется.
Надо было лицо его видеть
тогда,
а не сейчас,
Надо о славе судить,
только зная,
как она достается.
Бригада шла по барханам,
От самого Ундурхана
был только зной и песок,
только зной и песок,
песок
сквозь броню и чехлы.
Приходилось мокрыми тряпками затыкать кобуру нагана,
как детей,
пеленать крест-накрест орудийные стволы.
Но глаза -
их не забинтуешь,
они были красными до ожога,
хотелось их разодрать ногтями,
чтоб вынуть песок из-под век.
Он будет сыпаться долго-долго,
как в песочных часах.
В глазах его так много,
что можно,
высыпав весь,
сделать
песчаные берега для нескольких рек,
а всю воду выпить.
Или нет,
оставить немного на дне,
чтоб потом,
на обратном пути,
хоть горстку, глоточек...
Майор просыпается от ожога -
он прижался щекой к броне, -
шестьдесят градусов Цельсия.
В небе несколько точек.
Это орлы ушли вверх от жары.
В броневом зеленом стекле
через цепи низких барханов, переваливаясь, как утки,
под абсолютно красным солнцем,
по абсолютно желтой земле
абсолютно черные танки
идут уже третьи сутки.
Все цвета давно исчезли.
Остались только три:
желтое...
красное...
черное... -
цвет жары,
цвет крови,
цвет стали.
Майор вылезает на башню.
Он слышит, как там, внутри,
хрипло кашляют люди.
Они чертовски устали,
надо будет сесть самому,
а их
наверх, сюда.
Но сначала,
сначала,
черт возьми, как красиво:
как это ни странно - с башни видна вода,
настоящая
вдруг, голубая,
а над ней - ивы.
Да, ивы,
нагнулись, как дома на Оке.
Но только они почему-то красного цвета.
И, только что голубая.
вода в реке
начинает краснеть,
краснеть,
как лес на исходе лета.
- Эй, погодите!
Кто поджег воду? -
А ивы гнутся так низко,
так плоско,
что вот они уже как тростник,
как трава.
Заливные луга...
Но сейчас же острой полоской,
как косой, вдоль всего горизонта подрезает их синева.
И луга уплывают в иссиня-черное небо,
а вместо них прямо в землю сверху втыкается лес,
острый, сосновый.
Давно он в таком не был...
Сейчас бы туда,
под сосну,
в холод.
Скорей, пока не исчез!
Скорей, дайте двухверстку!
Я нанесу - тут лес и река,
тут лес и река,
а топографы и забыли!
- Что, товарищ майор?