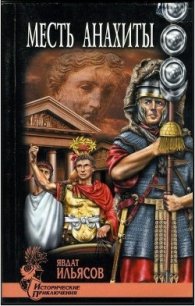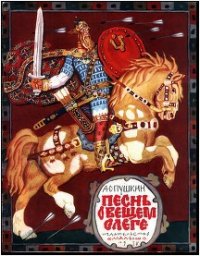Золотой истукан (др. изд.) - Ильясов Явдат Хасанович (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
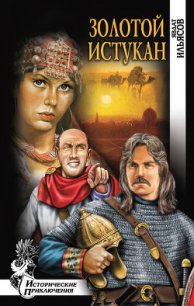
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Золотой истукан (др. изд.) - Ильясов Явдат Хасанович (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗 краткое содержание
Золотой истукан (др. изд.) читать онлайн бесплатно
Явдат Ильясов
Золотой истукан
Часть 1
РУСЬ. КОСТРЫ НА ХОЛМЕ
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
Зной. Безветрие. Скорбь. Чаден воздух над Росью. Плачут бабы – не хлебы пекут, жгут детей на кострах погребальных. Голод, хворь. Суховей пал в минувшее лето с вражьих степей. Надеялись нынче на милость Стрибожью, Хорсову жалость – опять обманулись.
Или мало их улещали? Отнюдь. К братчине звали, Незримых, под Новый год – последних овец извели, не скупились. До игрищ ли ярых было весной? Скудость. А справили масленицу, хоть и погрязли в долгах сверх бровей: старая чадь помогла, спасибо за щедрость такую. И Ярило – разве он забыт и обойден? Сыскали ему, как теплые дни приспели, утеху, ладную березу, невесту молодую. Лентами убрали белоногую, хаты увили зеленью, празднуя богово похотствие.
На Русальной неделе девушек нежных в листву обряжали, водой поливали до сини. Заставили их, невеселых, водить хороводы, венки плести из жесткой, плохо отросшей травы, в речку бросать обмелевшую. В ночь под летний солнцеворот – костры палить, С дружками прыгать через огонь. Иные падали, обжигались. Пусть. Лишь бы – ливень…
И вновь пригорело жито. Хилый урожай. Да и его дадут ли убрать подобру-поздорову. У неба – дождь запоздалый, град, и ветер, и молния. Близится страшный Родень.
В удачное лето – и то не брага льется в честь хмурого чура на требищах: режут быков ревущих, истово, с жутью в глазах, мажут кровью зубастую пасть истукана.
Что ж будет теперь?
Это случилось в полдень.
Они надвигались, сухо и четко брякая в унылой тишине, неотвратимы, отрывисты: словно упырь подступал, размеренно, с хрустом звенящим встряхивал костями на ходу.
Слухом Руслан уловил их давно – когда чужая поступь звучала еще вдалеке, у въезда в Семаргову весь, да отложил, не вникая в их суть: думал, кровь стучит в больных висках. Он был за печью, копался на дне хозяйственной ямы. А вдруг наскребет горсть зерна на похлебку?
Ничего. Одна пыль.
«Я – что пропойца Калгаст. Сходит в погост – издержится весь, до последней крохи, а утром, проспавшись, роется в легкой мошне: не осталось ли в ней на похмелье. Заведомо знает – пусто: так нет, трижды вывернет сумку, тряпье переберет, искать уже негде – сидит, шарит, точно слепой».
Он сплюнул горькую слюну, разогнулся, смахнул с ладоней пыль – и услыхал снаружи отчетливый стук, железный скрип, холодное позвякивание.
Дверь! Он с утра держал ее открытой. Жара, трудно вздохнуть. Пусть немного продует хату. Не ждал беды. Знал бы – явится лихо, бревном загородился изнутри. Теперь – поздно.
С обидой нынче богов поминал, старую чадь – людей родовитых в мыслях задел – вот и приспела кара. Неймется глупому! Сколько твердил себе: не ропщи, накажут. Другие ропщут – беги от речей досадливых. Нет! Словно змей угнездился в душе. Точит. Мучит. Спать, что ли, на ходу, чтоб не думалось? Блажь. Живешь – мыслишь. А жизнь какая?
Злые шаги проскрежетали у входа. Сплелись, оборвались, тупо заглохли. Будто цепь висячая упала, свернувшись. Руслан таился за плетеной стенкой, отсекавшей чулан от жилой половины. Хорошо – сумрак внизу. Не разглядеть сразу с улицы, есть тут кто или пусто в землянке. Взгляд сквозь прутья – наверх, по-рысьи вкрадчивый, из-под ресниц: глаза могут луч поймать, блеснуть, выдать.
Ниже порога, на первой ступеньке дерновой лестницы, чернела босая нога с тощей лодыжкой, охваченной тремя толстыми медными кольцами. К ним спадал обшитый крупными бубенцами край слепяще-алой, в желтых молниях, грубой ризы.
Хрип. Свист глухой. Точно бык вздохнул большой и хворый. Пола колыхнулась. Бубенцы загремели. В ушах Руслана, как напористый ветер в круглых днепровских раковинах, задрожал гнусавый свирепый звук.
– Ой! Чур… – Руслан испустил тонкий сверлящий крик. Из-подо лба, скрытого желтыми космами, улетучилась память. В очах мгновенно погас отблеск древних огней, полыхнула студеная синь степных лебяжьих озер. И яма для зерна тотчас превратилась в ловчую, волчью. Он рванулся – будто взлетел над нею, ушибся о стену. Забился, царапая глину, стремясь проломить головой сухую плотную толщу. Кинулся к очагу. Попробовал влезть, как в нору, под тесный закоптелый свод – не сумел, рухнул назад. Задергался, словно в падучей, на щербатом земляном полу…
– Еруслан! Эй! – Его перевернули, похлопали по спине. – Живой? Очнись.
– Сосед? – Руслан отполз, прислонился к печке. Искоса, с боязнью, скользнул дурными глазами по ногам Добриты. В лаптях! Слава богу. Свой. Он показал бровями на дверь.
– Слыхал?
Добрита кивнул, опустился на лавку.
– В город зовут, на Родень. А с чем идти? – Долгий, нескладный, весь из одних костей, взъерошил грязные волосы, замотал головой. Есть хочу…
Казалось, заплачет сейчас Добрита. Что голод? Жену вчеря отнес на костер. Нет, удержал слезу. И говорит без крика, смирно, с подспудной, безгласной болью. В летах человек. Терпеливый. Это Руслан, чуть что – навзрыд. Стыдись.
– Пойдем, брате, к старцу Нехлюду. Наземь рухнем. Глядишь, подсобит – хоть отрубей, да отсыплет.
– Где он, Нехлюд? Тишь в хате, ветер в клетях.
– Ну? И когда успел, сыч скупой? С вечера был, ныл: хлеб на исходе. Ночью, видно, утек. А мы – спим. Эх! Кинул нас. А еще – глава. Но и хулить грех. Досадили: «Отсыпь, отрежь». Покуда невмочь ему стало. Некрас да Нечай – те с нами вовсе не делились, сразу улетели. Ну, ладно. Ищи их теперь. Придется, брате, в погост плестись, к Пучине-боярину.
– Ходили уже. Отказал. Не одну, мол, Семаргову весь – весь округ пасу. Расхватали зерно. Сам ныне голодный, хоть помирай.
– Врет, не помрет. Перебьется. А нам – околеть, коль и дале тут охать да зелень жевать. Чего ждать? Уж и колосьев не осталось в поле – неспелые срезали, съели. Пойдем, Еруслан. Авось снизойдет.
Встряхнулся Руслан, ободрился. Спустились к реке. Вспомнил парень: дверь так и осталась открытой. Оглянулся. Будто куча приземистых копен, с прошлого лета забытых, оседлала бугор – жилища в откосы врыты, соломой трухлявой крыты. Безлюдье. Кто помер, кто под лавку залез помирать. Которые покрепче – разбрелись. И без того давно уж треснула община: одних вознесло, других прибило книзу, а теперь и вовсе распалась вервь.
Прощай, Семаргова весь, село родное.
Руслан заметил у своей землянки что-то круглое, желтое. Словно камень взлетел и застыл над изгородью. Присмотрелся: кувшин торчит на колу. Всего-то добра у смерда – кувшин пустой. Ладно. Пусть висит. Не птица, не упорхнет. Руслан еще напьется из него. И дверь пускай распахнута. Будет знать Руслан: ждет хата хозяина.
Ему и в голову не запало, что, может, он видит ее в последний раз.
Река – непривычно тихая, странно открытая – вся наружу, с белыми, чистыми, круто оглаженными, точно полные бедра и груди, грудами долгих и круглых отмелей – лежала в холмистых извилистых берегах, как в смятой постели: будто баба в жару оголилась, устало раскинулась. Лишь кое-где, словно сонный взгляд из-под частых ресниц, блеснет сквозь темную поросль осоки мглистая голубень.
– Эко сморило матушку Рось, – молвил Добрита жалеючи. – Сникла. Обомлела, бедная, обмелела. Пройдет ли челн? Не довелось бы тащить всю дорогу.
– А пеши и вовсе худо. Ноги дрожат. Бреди в такую даль.
– И то верно. Подохнем в лесу. Ишь как парит. Неужто к грозе?
– Тьфу! Типун бы тебе…
– Эй, смерды! – донеслось издали. – Эге-е-ей! Бегите сюда. Поспешайте.
Встрепенулся Руслан, побелел: не водяной ли кличет? Видит – поодаль, ниже по течению, где простор сквозной, стоит на воде, прямо на глади, нагое диво лохматое. Пред ним растянулось второе: черное, длинное, с высокой изогнутой шеей, с грозно склоненным клювом.