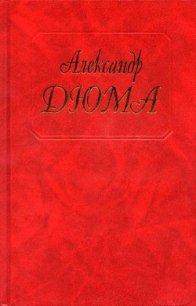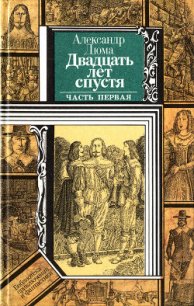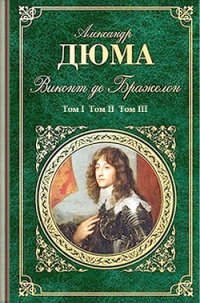Сан-Феличе. Книга первая - Дюма Александр (читать книги онлайн полностью без регистрации TXT) 📗
Самые смелые меры — самые надежные. Таково искреннее желание того, кто считает себя, дорогая леди,
Вашим покорнейшим и преданнейшим поклонником и другом,
Горацио Нельсона».
— Это все? — спросил король.
— Есть еще постскриптум, — ответил сэр Уильям.
— Прочтите и его… Если только…
Он сделал жест, означающий, по-видимому: «Если только он не предназначен для леди Гамильтон лично». Сэр Уильям опять взял письмо в руки и прочел:
«Прошу Вашу Светлость видеть в сем послании доказательство моего горячего стремления к благополучию Их Сицилийских Величеств и Их Королевства, что только и могло побудить английского адмирала почтительно высказать сэру Уильяму Гамильтону свое твердое и окончательное мнение, основанное на незыблемой верности нашему монарху».
— Теперь все? — осведомился король.
— Все, ваше величество, — ответил сэр Уильям.
— Над этим письмом стоит поразмыслить, — заявил король.
— Тут советы истинного друга, ваше величество.
— Мне кажется, что лорд Нельсон обещал быть больше чем нашим другом, дорогой мой сэр Уильям: он обещал стать нашим союзником.
— И обещание свое он выполнит… Пока лорд Нельсон и его флот находятся в Тирренском море и у берегов Сицилии, ваше величество может не опасаться, что это побережье будет обстреляно французами. Но, государь, через полтора-два месяца лорд Нельсон должен получить новое назначение. Поэтому следовало бы не терять время.
«Право же, можно подумать, что все они сговорились», — шепнул король кардиналу.
«А если и сговорились, тем лучше», — ответил кардинал так же тихо.
«Скажите-ка начистоту, каково ваше мнение насчет этой войны, кардинал?»
«Я полагаю, государь, что, если австрийский император сдержит свое обещание, а Нельсон будет тщательно оберегать ваши побережья, тогда и впрямь предпочтительнее атаковать и застигнуть французов врасплох, чем ждать, пока они на вас нападут».
«Значит, вы желаете войны, кардинал?»
«Мне кажется, при данных обстоятельствах самое худшее — ждать».
— Нельсон желает войны? — спросил король у сэра Уильяма.
— Во всяком случае, он горячо и искренне советует начать ее.
— Вы желаете войны? — обратился король к сэру Уильяму, продолжая расспрашивать его.
— Как английский посол я скажу «да», зная, что это соответствует желаниям моего государя.
— Кардинал, — сказал король, пальцем указывая на умывальный таз, — будьте добры, налейте в таз воды и подайте его мне.
Кардинал беспрекословно исполнил просьбу Фердинанда, и король, засучив рукава, стал мыть руки, с каким-то неистовством потирая их.
— Видите, что я делаю, сэр Уильям? — спросил он.
— Вижу, государь, — ответил посол, — но не вполне понимаю.
— Так я вам объясню, — медленно произнес король. — Я поступаю, как Пилат: умываю руки.
XLVI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ
Генерал-капитан Актон не забыл приказания, данного ему утром королевою, и созвал государственных инквизиторов в «темную комнату».
Собрание было назначено на девять, но — прежде всего из желания выслужиться, а также из страха за самих себя — каждому хотелось явиться первым, так что в половине девятого все трое были уже на месте.
Этих трех человек звали князь ди Кастельчикала, Гвидобальди, Ванни. Имена их остались в памяти неаполитанцев как самые ненавистные и должны быть начертаны историком на медных таблицах в назидание потомству наравне с именами таких, как пресловутые Лафема и Джефрис.
Князь ди Кастельчикала, самый знатный и потому самый презренный, был послом в Англии, когда королева, желая воспользоваться одним из наиболее аристократических имен Неаполя для темных дел, как государственных, так и своих личных, отозвала его из Лондона. Ей требовался человек с громким именем, готовый всем пожертвовать ради удовлетворения своего тщеславия и испить до дна чашу позора, лишь бы там, на дне оказались золото и монаршие милости. Королева подумала, что князь ди Кастельчикала здесь подойдет как нельзя лучше, и тот согласился не раздумывая: он понял, что иной раз выгоднее опуститься, чем подняться, и, рассчитав, как может королева отблагодарить человека, готового стать орудием ее мести, превратился из князя в сбира, из посла — в шпиона.
Гвидобальди не пришлось ни опускаться, ни подниматься, принимая сделанное ему предложение: то был несправедливый судья, недобросовестный чиновник, и он остался таким же подлым, каким и был всегда. Но, будучи удостоен королевского благоволения, став членом Государственной джунты, вместо того чтобы быть простым судейским, он получил более обширное поле деятельности.
Князя Кастельчикала и судью Гвидобальди боялись и ненавидели, но все же меньше, чем фискального прокурора Ванни. Сравниться с ним не могло ни одно человеческое существо. Если будущее и приберегло для себя подобного ему злодея в лице сицилийца Спецьяле, то во времена, о которых идет речь, этого зверя еще никто не знал. Фукье-Тенвиль, скажете вы? Но ко всем надо быть справедливыми, даже к таким, как Фукье-Тенвиль. Он выступал как обвинитель от имени Комитета общественного спасения; к нему, как к жрецу, приводили жертву и говорили: «Убей», но сам он ее не выискивал; он не был, как Ванни, одновременно сыщиком, чтобы обнаружить ее, сбиром, чтобы ее схватить, судьей, чтобы вынести приговор.
— В чем вы упрекаете меня? — кричал Фукье-Тенвиль своим судьям, обвинявшим его в том, что он срубил три тысячи голов. — Разве я человек? Я секира. Если вы обвиняете меня, так надо обвинять и нож гильотины.
Нет, подобия Ванни следует искать среди хищных, кровожадных животных. В нем было нечто от волка и гиены не только в отношении наклонностей, но и во внешности. Как волк, он неожиданно вскидывался, когда надо было схватить добычу, и, как гиена, подкрадывался к ней безмолвно, окольным путем. Роста Ванни был выше среднего; взгляд у него был мрачный и сосредоточенный, цвет лица — землистый и, подобно жуткому Карлу Анжуйскому, чей впечатляющий портрет нам оставил Виллани, он никогда не смеялся и мало спал.
Когда Ванни в первый раз явился в качестве члена Джунты на ее заседание и вошел в зал, лицо его выражало крайнюю степень ужаса — то ли настоящего, то ли наигранного. Очки у него были подняты на лоб, он натыкался на стулья, на стол. К собратьям он подошел с криком:
— Господа, господа! Вот уже полгода, как я не сплю, видя, каким опасностям подвергается мой король.
При случае он постоянно говорил «мой король», так что председатель Джунты в конце концов, потеряв терпение, возмутился:
— Ваш король! Что вы под этим подразумеваете? Не скрывается ли тут под видом усердия непомерная гордыня? Почему бы не сказать, как говорим все мы: «Наш король»?
Ванни промолчал. За него ответим мы.
При правительствах слабых и деспотичных тот, что говорит «мой король», неизбежно возвышается над всеми говорящими просто «наш король».
Как уже известно читателю, именно вследствие рвения Ванни тюрьмы Неаполя наполнились подозреваемыми, которых заключали в зловонные, душные камеры и лишали как света, так и хлеба; попав в такую могилу, человек, часто не знающий даже причины своего ареста, не ведал уже не только срока, когда он выйдет на волю, но даже дня, когда его будут судить. Ванни, верховный распорядитель этих страданий, совершенно терял интерес к тем, кто попал в темницу, а занимался только теми, кого еще предстояло в нее заточить. Если мать, жена, сын, сестра, любовница приходили к нему, чтобы похлопотать за своего сына, супруга, брата, возлюбленного, это только усугубляло вину заключенного; если ходатаи прибегали к заступничеству короля, это оказывалось хуже, чем бесполезно, — просто опасно, ибо в таких случаях Ванни взывал уже не к королю, но к королеве, а если король иной раз и миловал, то королева — никогда.
В противоположность Гвидобальди, жестокий Ванни создал себе репутацию судьи справедливого, но неумолимого, и это делало его еще более грозным; безграничное тщеславие сочеталось у него с не знающей меры беспощадностью, и, к несчастью для всех, он был в то же время человеком увлекающимся; дело, которым он занимался, всегда представлялось ему чрезвычайно важным, потому что он рассматривал его в микроскоп своего воображения. Такие люди опасны не только для тех, кого им предстоит судить, но и для тех, кто поручает им судить, по той причине, что, не будучи в силах удовлетворить свое честолюбие делами действительно значительными, они приписывают мнимую значительность мелким своим деяниям — единственным, которые доступны им.