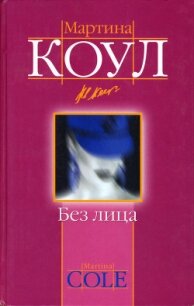Жизнь и приключения Мартина Чезлвита (главы I-XXVI) - Диккенс Чарльз (е книги txt, fb2) 📗
Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал: – Но, мистер Чезлвит, хотя я готов забыть о себе, тем не менее должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации – да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставлю в наследство своим двум дочерям, – я должен сказать вам, не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно, противоестественно, чудовищно, что ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр, – продолжал далее мистер Пексниф, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что, казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетою взвился бы к небесам, – скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. Это не годится, сэр, – повторил мистер Пексниф, качая головой. – Вы, может быть, думаете, что годится, – но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке: вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. Я уверен, – продолжал мистер Пексниф, бросая взгляд на перо и чернила, – что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас господь за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи!
Свою речь мистер Пексниф закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему видно было, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. Не чуждый человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста.
Мартин Чезлвит некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев; наконец он пробормотал едва слышно:
– Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня, как и все прочие: оба они одного поля ягоды. Опять козни, опять козни! О эгоизм, эгоизм! Куда ни повернись, ничего кроме эгоизма!
Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге.
– Еще одно завещание составлено и уничтожено, – пробормотал он, – ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я… мог умереть сегодня! Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги, – восклицал он, чуть ли не корчась в постели. – Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег, да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей! Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких родных, там, где нет места ничему, кроме любви. Горе нам, ибо за многое нам придется ответить! О эгоизм, эгоизм! Каждый за себя, а за меня – никто!
Вездесущий эгоизм! Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях; да и во всей истории Мартина Чезлвита, по собственному его свидетельству?
Глава IV,
из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете
Итак, сей достойнейший муж, мистер Пексниф, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой, где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни, как бы его в это время не вызвали спешно к одру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пексниф, по своему великому милосердию, решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика, что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый.
В продолжение всего этого времени он забегал в «Дракон» в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упрямца, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувствовалась, – ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении, – и пролила немало умиленных и восторженных слез.
Тем временем старый Мартин Чезлвит сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы да еще хозяйки «Синего Дракона», которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой, хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось-таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив.
Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф, войдя, по обыкновению, в общую залу «Дракона» и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь, в пылу христианского усердия, приложить ухо к замочной скважине и, душевного спокойствия ради, удостовериться в том, что жестокосердый пациент чувствует себя хорошо. Случилось так, что мистер Пексниф, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча; а далее случилось так, что мистер Пексниф, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись второпях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик, по своей подозрительности, заткнуть скважину изнутри, – так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания «ой!», исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пексниф немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом престранной наружности, который одной рукой держал мистера Пекснифа за шиворот, а другой, свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо.
По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать «благородной бедностью», хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах: наоборот, пальцы у него свободно вылезали из перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета – когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи, – и тик туго натянуты, в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя, со шнурами, была застегнута на все пуговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была вначале – белая или черная. При всем том он носил усы – и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечесаных волос. Он был очень грязен и очень нахален, очень дерзок и очень угодлив, – словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и несомненно заслуживал гораздо худшего.
– Вы подслушивали у дверей, негодяй вы этакий! – сказал незнакомец.
Но мистер Пексниф пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконом, когда это чудовище находилось при последнем издыхании; не удостоив его ответом, он сказал: