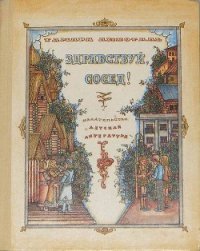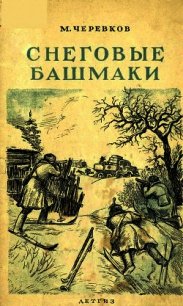Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую - Лихоталь Тамара Васильевна
И вот они в Европе — свирепого вида всадники в меховых одежах, табуны коней и верблюдов, стада, кибитки, не виданные в Европе китайские стенобитные орудия, камнеметная артиллерия…
Одним из первых увидел их часовой на сторожевой башне польской столицы Кракова. С тех пор минуло семь веков с лишком, но и ныне каждый час звучит над Краковом тревожный голос трубы и обрывается на середине такта. Потому что безвестный тот часовой был сражён татарской стрелой, не успев до конца доиграть сигнал тревоги. Но всё же он разбудил город, призвал к оружию своих сограждан, и в память о нём плывёт над Краковом голос его трубы.
Их не остановили ни реки, ни горы. Движения их орд не могли задержать ни отчаянно сражавшиеся ополченцы, ни железные рыцарские дружины. Казалось, сбывалось мрачное пророчество: неведомый народ, вышедший из пустыни меж севером и востоком, во главе со своим богом войны двигался все дальше по дорогам Европы. Уже копыта его коней протопали по землям Польши, Чехии, Венгрии, уже передовые его полки дошли до узкой полосы Адриатического моря, за которой лежал Рим… Ожидали, что папа римский сплотит венценосных полководцев — князей, королей, императоров, чтобы объединенными усилиями остановить нашествие варваров, потрясших христианский мир. Но папа, занятый распрями, бежал из Рима во Францию…
И вдруг огромное татаро-монгольское войско повернуло назад. Почему? Причин было много: в Орде умер Великий хан, и надо было избирать нового, в войске началось брожение, а позади лежала огромная завоеванная, но непокорённая земля Русь.
«России определено было предназначение… Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы» (Пушкин).
А сейчас мы снова возвращаемся на Русь. Начинается новая глава, но она уже не из «Повести о богатырях», а из другой книги. Называется она — «СЫНОВЬЯ».
СЫНОВЬЯ

Потом, когда случилось всё это, припоминали люди: по ночам то на одном краю Киева, то на другом слышался горький плач. Не сразу догадались, что это плакала мать пресвятая богородица — Нерушимая стена. По-разному писали иконописцы женщину, подарившую миру сына-бога. Иногда она ещё совсем малая девичка, которую привели в монастырскую школу. С книгами в руках, вступает она под своды храма, где предстоит ей провести в учении несколько лет. Иногда — это молодая девица, прилежно склонившаяся над пряжей. Иногда — мать с младенцем на руках прижимает его к себе в скорби и страхе перед теми испытаниями, которые суждено пройти ее сыночку. А в киевской Софии на большой, во всю стену, выложенной из цветной смальты мозаике возвышается она над людьми. Стоит во весь рост, то ли воздев кверху, то ли раскинув в стороны руки, будто хочет защитить собравшихся внизу людей. Вот почему и прозвали её Оранта — Нерушимая стена. Ведь всегда в случае опасности бежит народ под защиту стен.
На Софии в неурочный час забили колокола. Им отозвались все сорок сороков киевских церквей. Набатный колокольный звон извещал жителей о тревоге. Михалку он застал на торгу. Михалка успел купить лемеха для плуга, шаль жене и птичку-свистульку для сынишки Ильи. И теперь, держа покупки в руках, растерянно стоял посреди площади.
После гибели своего приемного отца Ильи Муравленина Михалка ещё некоторое время служил на пограничной заставе. На южной границе было на редкость спокойно… Половцы после разгрома, который учинили в их степях таурмены, больше не тревожили Русь набегами. Многие их роды откочевали на запад. Говорили, что выпросили они у венгерского короля разрешение поселиться на угорских землях. На все были готовы: и жить оседло в отведенных им местах, и принять христианство. Всё равно — говорили — не дадут им житья таурмены, того и гляди снова нагрянут в их степи.
Сокольник уговаривал Михалку переехать в Киев, поступить в княжескую дружину. Но Михалка в дружину не пошёл — помнил, как говаривал Илья: «В усобицах славы не сыщешь!» В Киев он тоже жить не поехал. Осел на землю, сеял хлеб. Обзавёлся семьёй. Несколько дней назад он приехал в стольный кой-чего купить. Остановился, как всегда, в доме Сокольника.
Время опять наступало тревожное. Об этом на днях толковали у Сокольника. Пришел Сокольников друг Ядрейка и ещё двое дружинников. Сидели хмурые.
— Неужто Калка ничему так и не научила князей? — говорил Сокольник. — Дорого заплатили мы тогда за княжеские распри. И вот опять все то же.
— Что и говорить, — кивнул головой немолодой дружинник. — Владимирский князь и Рязань выдал на разоренье, и свой город погубил, и сам с сыновьями погиб.
Все помолчали, будто над гробом покойника. Рязань была на памяти у всех. Долго не слышали на Руси о таурменах, или татарах, как их чаще называли теперь. И вот опять явилась их несметная сила. В этот раз первой приняла на себя удар Рязань. Когда татары еще только перешли восточную границу Руси, рязанский князь послал гонца во Владимир за подмогой. Но владимирский князь подмоги не прислал. Пришлось рязанцам одним встретить врага. По своему обыкновению, хан Собака дал лживое обещание не тронуть город, если окажут ему почёт и уважение. И поехал к нему с дарами княжич, старший сын рязанского князя. Хан взял дары, но потребовал от княжича, чтобы тот прислал ему свою красавицу жену. Не стерпел обиды молодой княжич, отвечал хану: «Всё ты сможешь взять, но только тогда, когда нас в живых не будет!»
Княжич был убит. А жена его, когда враги окружили город, взяла своего малолетнего сына и вместе с ним бросилась вниз с колокольни. Так рассказывали люди.
Рязань татары сожгли дотла.
— Один мой ратник оттуда родом. Ездил недавно. Говорит, даже место то, где стоял город, порастает травой, — стал рассказывать Ядрейка.
— Скоро многие наши города порастут травой, если не отстоим свою землю! — сказал Сокольник.
— Отстояли бы, ежели бы разом все встали, — снова заговорил пожилой дружинник. — Помните притчу о том, как отец дал сыновьям пук прутьев и велел разломить его? Сколько ни старались сыновья, не смогли осилить. А отец взял, повыдергал прутья и по одному быстро поломал их. Вот так и у нас получается. Каждый город насмерть стоял — что Коломна, что Москва, что Козельск, а толку…
Да, Козельск крепко держался. Столько крови было пролито! Говорят, что князь-малолетка в той кровавой реке захлебнулся.
А владимирский князь… Что теперь тревожить его память. Сам он принял мученический венец. А всё же приди он тогда на помощь Рязани, может, всё бы совсем по-другому обернулось.
— Может, они угомонились — татары? В последнее время о них вроде бы не слыхать, — проговорил Михалка. Но пожилой дружинник, мрачно взглянув на него, сказал:
Скоро услышите.
А Сокольник добавил тихо:
— Разведка донесла: новая рать их идёт.
…Бежали люди, скакали всадники. Михалка тоже хотел было бежать домой, но потом сообразил: Сокольника дома нету. Дружинники по тревоге должны быть на княжеском дворе. Что же ему делать? И в село надо возвращаться к жене и сыну — может, и туда дойдут татары. И покидать в такой трудный час стольный негоже.
В это время на площадь выехал воз, на котором, словно поленья, лежали пики, секиры, бердыши, палицы. Его тотчас окружили. Двое дружинников принялись раздавать оружие. Подошел и Михалка. Ему досталась палица с тяжелой булавой.
— Теперь, друг, не скоро придётся пахать! — с сочувствием сказал стоявший рядом немолодой простолюдин, глядя на лемеха, которые Михалка все еще продолжал держать. — Оставь их. Живы будем, откую тебе новые. Я — кузнец.
Михалка положил лемеха на землю возле стены чьего-то домишки, а шаль с птичкой-свистулькой спрятал за пазуху.
Киевляне с благодарностью поминали старого князя Ярослава, в свое время окружившего стольный крепкими крепостными стенами. Они тянулись от подножия горы почти до Крещатной долины. Но даже в этом огромном кольце было тесно от жителей, набежавших сюда с Подола и других районов, находившихся за городским валом, от войск, стянутых с пограничных застав. Тесно было и в Софийском храме, где возносили киевляне молитвы матери божьей Оранте — Нерушимой стене. Казалось, она всем сердцем понимала людскую беду. Скорбно глядели на молящихся чуть раскосые глаза. Но поднятые вверх, раскинутые руки обещали защиту. Да и не могла она не защитить город, где ее так любили и почитали. Во всяком случае, в это твердо верили и ратники, приходившие помолиться перед предстоящим боем, и женщины, в слезах и надежде прижимавшие к себе испуганных, притихших детей.