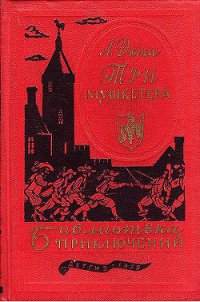Три мушкетера(изд.1977) - Дюма Александр (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
И он бросился из комнаты, запер за собой дверь и стал ждать в коридоре, с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового.
Когда солдат вернулся, Фельтон отдал ему его оружие.
Подойдя к дверному окошечку, миледи увидела, с каким исступлением перекрестился Фельтон и как пошёл по коридору вне себя от восторга.
Она вернулась на своё место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя божие, которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его.
— Мой бог? — сказала она. — Безумный фанатик! Мой бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя!
XXVI.
Пятый день заключения
Между тем миледи наполовину уже торжествовала победу, и достигнутый успех удваивал её силы.
Нетрудно было одерживать победы, как она делала это до сих пор, над людьми, которые легко поддавались обольщению и которых галантное придворное воспитание быстро увлекало в её сети; миледи была настолько красива, что на пути к покорению мужчин не встречала сопротивления со стороны плоти, и настолько ловка, что без труда преодолевала препятствия, чинимые духом.
Но на этот раз ей пришлось вступить в борьбу с натурой дикой, замкнутой, нечувствительной благодаря привычке к самоистязанию. Религия и суровая религиозная дисциплина сделали Фельтона человеком, недоступным обычным обольщениям. В этом восторженном уме роились такие обширные планы, такие мятежные замыслы, что в нём не оставалось места для случайной любви, порождаемой чувственным влечением, той любви, которая вскармливается праздностью и растёт под влиянием нравственной испорченности. Миледи пробила брешь: своей притворной добродетелью поколебала мнение о себе человека, сильно предубеждённого против неё, а своей красотой покорила сердце и чувства человека целомудренного и чистого душой. Наконец-то в этом опыте над самым строптивым существом, какое только могли предоставить ей для изучения природа и религия, она развернула во всю ширь свои силы и способности, ей самой дотоле неведомые!
Но тем не менее много раз в продолжение этого вечера она отчаивалась в своей судьбе и в себе самой; она, правда, не призывала бога, зато верила в помощь духа зла, в эту могущественную силу, которая правит человеческой жизнью в мельчайших её проявлениях и которой, как повествует арабская сказка, достаточно одного гранатового зёрнышка, чтобы возродить целый погибший мир.
Миледи хорошо подготовилась к предстоящему приходу Фельтона и тщательно обдумала своё поведение при этом свидании. Она знала, что ей остаётся только два дня и что как только приказ будет подписан Бекингэмом (а Бекингэм не задумается подписать его ещё и потому, что в приказе проставлено вымышленное имя и, следовательно, он не будет знать, о какой женщине идёт речь), как только, повторяем, приказ этот будет подписан, барон немедленно отправит её. Она знала также, что женщины, присуждённые к ссылке, обладают гораздо менее могущественными средствами обольщения, чем женщины, слывущие добродетельными во мнении света, те, чья красота усиливается блеском высшего общества, восхваляется голосом моды и золотится волшебными лучами аристократического происхождения. Осуждение на унизительное, позорное наказание не лишает женщину красоты, но оно служит непреодолимым препятствием к достижению могущества вновь. Как все по-настоящему одарённые люди, миледи отлично понимала, какая среда больше всего подходит к её натуре, к её природным данным. Бедность отталкивала её, унижение отнимало у неё две трети величия. Миледи была королевой лишь между королевами; для того чтобы властвовать, ей нужно было сознание удовлетворённой гордости. Повелевать низшими существами было для неё скорее унижением, чем удовольствием.
Разумеется, она вернулась бы из своего изгнания, в этом она не сомневалась ни одной минуты, но сколько времени могло продолжаться это изгнание? Для такой деятельной и властолюбивой натуры, как миледи, дни, когда человек не возвышается, казались злосчастными днями; какое же слово можно подыскать, чтобы назвать дни, когда человек катится вниз! Потерять год, два года, три года — значит потерять вечность; вернуться, когда д'Артаньян, вместе со своими друзьями, торжествующий и счастливый, уже получит от королевы заслуженную награду, — всё это были такие мучительные мысли, которых не могла перенести женщина, подобная миледи. Впрочем, бушевавшая в ней буря удваивала её силы, и она была бы в состоянии сокрушить стены своей темницы, если бы хоть на мгновение физические её возможности могли сравняться с умственными.
Помимо всего этого, её мучила мысль о кардинале. Что должен был думать, чем мог себе объяснить её молчание недоверчивый, беспокойный, подозрительный кардинал — кардинал, который был не только единственной её опорой, единственной поддержкой и единственным покровителем в настоящем, но ещё и главным орудием её счастья и мщения в будущем? Она знала его, знала, что, вернувшись из безуспешного путешествия, она напрасно стала бы оправдываться заключением в тюрьме, напрасно стала бы расписывать перенесённые ею страдания; кардинал сказал бы ей в ответ с насмешливым спокойствием скептика, сильного как своей властью, так и своим умом: «Не надо было попадаться!»
В такие минуты миледи призывала всю свою энергию и мысленно твердила имя Фельтона, этот единственный проблеск света, проникавший к ней на дно того ада, в котором она очутилась; и, словно змея, которая, желая испытать свою силу, свивает и развивает кольца, она заранее опутывала Фельтона множеством извивов своего изобретательного воображения.
Между тем время шло, часы один за другим, казалось, будили мимоходом колокол, и каждый удар медного языка отзывался в сердце пленницы. В девять часов пришёл, по своему обыкновению, лорд Винтер, осмотрел окно и прутья решётки, исследовал пол, стены, камин и двери, и в продолжение этого долгого и тщательного осмотра ни он, ни миледи не произнесли ни слова.
Без сомнения, оба понимали, что положение стало слишком серьёзным, чтобы терять время на бесполезные слова и бесплодный гнев.
— Нет-нет, — сказал барон, уходя от миледи, — вам ещё не удастся убежать этой ночью!
В десять часов Фельтон пришёл поставить часового, и миледи узнала его походку. Она угадывала её теперь, как любовница угадывает походку своего возлюбленного, а между тем миледи ненавидела и презирала этого слабохарактерного фанатика.
Условленный час ещё не наступил, и Фельтон не вошёл.
Два часа спустя, когда пробило полночь, сменили часового.
На этот раз время наступило, и миледи стала с нетерпением ждать.
Новый часовой начал прохаживаться по коридору.
Через десять минут пришёл Фельтон.
Миледи насторожилась.
— Слушай, — сказал молодой человек часовому, — ни под каким предлогом не отходи от этой двери. Тебе ведь известно, что в прошлую ночь милорд наказал одного солдата за то, что тот на минуту оставил свой пост, а между тем я сам караулил за него во время его недолгого отсутствия.
— Да, это мне известно, — ответил солдат.
— Приказываю тебе надзирать самым тщательным образом. Я же, — прибавил Фельтон, — войду и ещё раз осмотрю комнату этой женщины: у неё, боюсь, есть злое намерение покончить с собой, и мне приказано следить за ней.
— Отлично, — прошептала миледи, — вот строгий пуританин начинает уже лгать.
Солдат только усмехнулся:
— Чёрт возьми, господин лейтенант, вы не можете пожаловаться на такое поручение, особенно если милорд уполномочил вас заглянуть к ней в постель.
Фельтон покраснел; при всяких других обстоятельствах он сделал бы солдату строгое внушение за то, что тот позволил себе подобную шутку, но совесть говорила в нём слишком громко, чтобы уста осмелились что-нибудь вымолвить.
— Если я позову, — сказал он, — войди. Точно так же, если кто-нибудь придёт, позови меня.
— Слушаю, господин лейтенант, — ответил солдат.
Фельтон вошёл к миледи. Миледи встала.