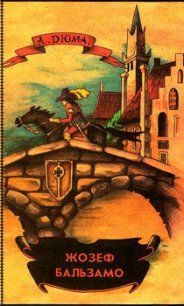Волонтер девяносто второго года - Дюма Александр (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
— За победу короля и истребление мятежников! Поддержите меня, господа!
— За победу короля и истребление мятежников! — хором подхватили гости. Но не успели они поднести бокалы к губам, как со стороны раскаленной от жары пыльной дороги на Париж послышался громкий топот коня, скачущего галопом.
Радостно размахивая шляпой, украшенной трехцветной кокардой, всадник вихрем промчался мимо, крикнув дрожащим от восторга голосом г-ну де Дампьеру и его друзьям несколько слов, не менее страшных для них, чем начертанные огненными буквами слова, что Валтасар прочел на стене своего дворца:
— Бастилия пала! Да здравствует нация!
Этим всадником был г-н Жан Батист Друэ, во весь опор примчавшийся из столицы и спешивший сообщить друзьям в Варение о победе народа над монархией.
Новость эта — он возвещал ее во всех городах и деревнях, через которые проезжал, — озаряла дорогу, словно огненный след.
Это был неистовый крик радости, вырвавшийся из глубин души Франции в день, когда пала Бастилия.
Среди книг, что в то время давал мне г-н Друэ, была одна — я отлично ее помню, — озаглавленная «Записки Ленге». Говоря о Бастилии, автор написал запомнившуюся мне фразу: «Она подавляла улицу Сент-Антуан!»
Весь мир слышал о Бастилии, этой крепости, давшей свое имя другим тюрьмам.
«Бастилия» и «тирания» были словами, которые могли найти себе место в словаре синонимов.
По всей Франции люди целовались, передавая друг другу святую весть. Господин де Сегюр, наш посол в России — этой классической стране самовластья, — рассказывает, что видел, как два московских дворянина, плача от радости, обнимались и восклицали, подобно г-ну Друэ:
— Бастилия пала!
Но одна странность доказывала, сколь велика была ненависть к этим камням, соучастникам королевских преступлений: ведь это народ, которому никогда до Бастилии не было никакого дела — она была построена для дворян, но в случае необходимости служила тюрьмой для философов, — именно народ взял ее штурмом, разрушил, развеял по ветру, если так можно выразиться.
Может создаться впечатление, будто народ боялся, как бы Бастилия, вросшая корнями в землю, не выросла бы снова.
Уже стариком, я, кто в шестнадцать лет танцевал на развалинах Бастилии, прочитал прекрасную книгу о Революции. Ее написал Мишле.
Там рассказывается, как однажды в Версале, когда у г-жи де Помпадур находился Кенэ, врач Людовика XV, в комнату неожиданно вошел король, которого тот никак не ожидал в эту минуту. Кенэ побледнел, задрожал с ног до головы и поспешил уйти не столько из учтивости, сколько из страха. В коридоре он встретил г-жу дю Оссе.
— Бог мой! В чем дело? — воскликнула остроумная камеристка. — На вас лица нет, дорогой господин Кенэ!
— Вы спрашиваете, в чем дело, мадемуазель? В том, что в ту минуту, когда я совсем его не ждал, к маркизе вошел король.
— Поэтому вы так бледны и испуганы?
— Да, ибо каждый раз, увидев короля, я думаю: вот человек, кто, если ему придет каприз, может приказать отрубить мне голову и никто не вправе будет помешать этому, ни у кого даже подобная мысль не возникнет.
— Помилуйте! Король так добр! — возразила г-жа дю Оссе.
Но читатели согласятся, что для гражданина очень ненадежная гарантия, если каприз отрубить ему голову придет такому доброму королю.
В начале своего правления Калигула и Нерон тоже были такими добрыми. Подписывая свой первый приговор, Нерон произнес величественные слова: «Я хотел бы не уметь писать!»
Вот почему Сенека тогда успокаивал встревоженных людей и, подобно г-же дю Оссе, восклицал: «Император такой добрый!» Но этот такой добрый император отравил брата, выпустил кишки матери, задушил жену, убил любовницу, ударив ее ногой в живот, и заставил своего учителя Сенеку, чтобы он вскрыл вены.
Вы можете возразить: «Он обезумел».
Я отвечу: «Разве король Франции не может обезуметь, как и римский император?»
Вероятно, король был слишком добр для того, чтобы приказать без причины отрубить голову знакомому ему человеку; вместе с тем, этот добряк не отказывал в выдаче приказа о заточении без суда и следствия отцу, что хотел посадить в тюрьму сына; жене, что просила посадить мужа; католику, что добивался заключения протестанта.
Только г-н де Сен-Флорантен выдал 50 000 таких приказов о заточении в Бастилию. Не подумайте, что я ошибаюсь на три нуля, два или даже один и хочу сказать 50, 500 или 5 000. Нет, ошибки нет, именно 50 000! Но и при этом короле, таком добром, что он не приказал отрубить голову Кенэ, и при его сыне, еще более добром, один человек, то есть создание, подверженное ошибкам и страстям, распоряжается свободой — бесценным даром, которым Бог наделил человека, — отправляя пятьдесят тысяч своих ближних в Бастилию.
Я всегда содрогался, подобно г-ну Кенэ, думая об этом кошмаре и о том, что комендантом Бастилии был сын де Ла Врийера, внук де Шатонёфа; эти трое, так же как монархи по божественному праву наследуют трон, сменяли ДРУГ друга во главе тюремного ведомства: Бастилия была их семейной вотчиной.
В Венеции были свинцовые кровли и колодцы; в Бастилии имелись карцеры, откуда заключенные выходили, если вообще выходили, без носа и ушей: их отгрызали крысы.
Но из Бастилии редко выходили на свободу. Попав в страшную крепость, человек, за кем захлопывалась тюремная дверь, оказывался не мертвецом, а — это гораздо ужаснее! — навеки забытым. Ваш лучший друг, ваш брат, ваш сын не смели о вас вспоминать, страшась, как бы их тоже не отправили в Бастилию.
В Бастилии люди переставали быть людьми, становясь номерами. Если узник заболевал, его исповедовали иезуиты; если умирал — они же хоронили его под вымышленным именем. Когда попытались узнать имя Железной маски, оказалось, что его звали Марчиали.
Нет, король не рубил голов: для этого он был слишком добр — он просто забывал о людях.
Вместо того чтобы умереть в одну минуту, в Бастилии агонизировали тридцать лет.
При Людовике XVI режим во всех тюрьмах смягчился, а в Бастилии, наоборот, ужесточился; при других королях в тюрьме забили окна, решетки и засовы стали вдвое крепче, ну а при Людовике XVI уничтожили сад и место прогулок вокруг башен. Конечно, их уничтожал не лично Людовик XVI, но он позволил это сделать, что абсолютно то же самое.
Поэтому обратите внимание на одно очень странное противоречие! В царствование Людовика XVI, когда Бастилия процветает и туда каждый день отправляют заключенных, вместе с тем увенчивают лаврами г-жу Легро, награждая ее премией добродетели за то, что она добилась освобождения Латюда.
Но, спрашивается, какой же премии должны быть удостоены Людовик XV и г-жа де Помпадур, засадившие Латюда в Бастилию?
Позорного столба истории!
Увы, месть народов поздно настигает монархов, если вообще настигает.
Мы уже писали, что не Людовик XVI лишил узников сада и места прогулок вокруг башен. Это сделал пресловутый, всеми ненавидимый де Лонэ, обещавший взорвать Бастилию.
В Бастилии все должности — от коменданта до простых надзирателей — покупались; все места, кроме камер узников, были доходными.
Комендант Бастилии получал шестьдесят тысяч ливров жалованья. А де Лонэ воровством добывал себе сто двадцать тысяч ливров в год, отбирая у заключенных дрова, чтобы отапливать свое жилище, и лишая их пищи, чтобы самому неплохо кормиться. Де Лонэ имел право беспошлинно ввозить в год сто бочек вина. Он продавал свое право трактирщику; тот выплачивал коменданту половину стоимости вина и поставлял в тюрьму вместо приличного вина жалкое пойло.
Господин де Лонэ имел любовниц, но был слишком скуп, чтобы им платить. Он приводил их к своим богатым заключенным; те с ними расплачивались, и сам он, офицер короля, кавалер ордена Святого Людовика, безвозмездно пользовался услугами дам.
Мы упоминали о саде в Бастилии, отнятом у заключенных. Это была горсточка земли, насыпанной на бастионе. Какой-то торговец цветами платил де Лонэ за эту землю сто франков в год, и за сто франков в год этот мерзавец лишал узников глотка свежего воздуха, что был для них жизнью, отнимал крохи дневного света, что еще отделял их от могильной тьмы.