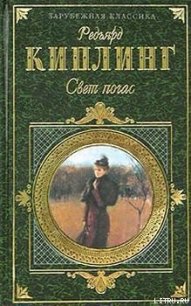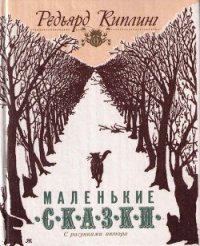Свет погас (перевод Энквист) - Киплинг Редьярд Джозеф (читать полностью книгу без регистрации .txt) 📗
— И ты не думаешь, что это когда-нибудь случится?
— Нет, я уверена, что этого никогда не будет.
— Почему?
Мэзи подперла рукой подбородок и, продолжая глядеть на море, заговорила с нервной поспешностью:
— Я прекрасно знаю, чего ты хочешь, но я не могу дать тебе этого, Дик. Но я, право, не виновата в том, что не могу дать тебе того, чего ты от меня ждешь, право, не виновата. Если бы я чувствовала, что могу полюбить кого-нибудь… Но нет, я этого совершенно не чувствую. Я не понимаю даже, что это за чувство.
— И это правда, дорогая?
— Ты был всегда-всегда очень добр ко мне, Дик; и единственное, чем я могу отблагодарить тебя, это правдой. Я не смею солгать тебе, Дик, я и так уже достаточно презираю себя.
— За что, Боже правый! За что?
— За то, что я беру все, что ты даешь мне, и ничего не даю тебе взамен. Это низко, подло и эгоистично с моей стороны, я это осознаю, и это мучает меня ужасно.
— Так пойми раз навсегда, что я сам могу позаботиться о себе, и что никто меня не заставляет делать то, что я делаю, и если я хочу что-либо делать для тебя, то ты в этом не виновата и тебе не в чем упрекать себя, дорогая.
— Нет, я знаю, что есть, но говорить об этом особенно тяжело.
— Ну так не говори.
— Но как же я могу не говорить, если всякий раз, когда ты случайно остаешься хоть на минуту наедине со мной, ты сейчас же начинаешь говорить об этом, а если не говоришь, то смотришь на меня так, что я читаю все тот же вечный вопрос в твоих глазах? Ты не знаешь, до какой степени я иногда презираю себя!
— Боже мой! — воскликнул Дик, чуть не вскочив на ноги. — Скажи мне правду, Мэзи, даже если ты после этого никогда больше не скажешь мне ни одного слова правды! Надоел я или надоело тебе это мое постоянное ожидание и напоминание, хотела бы ты избавиться от того и другого?
— О нет, нет!
— Ты сказала бы мне, если бы надоело?
— Я дала бы тебе понять, я думаю.
— Благодарю. А это другое — настоящая фатальность. Ты должна научиться прощать человеку, который тебя любит. Он неизбежно делается навязчив и надоедлив. Это тебе должно быть уже известно?
Мэзи не сочла нужным ответить на последний вопрос, и Дик был вынужден повторить его еще раз.
— Были, конечно, и другие мужчины; и они всегда надоедали мне и раздражали меня как раз в самый разгар моей работы и требовали, чтобы я слушала их.
— И ты их слушала?
— Сначала да; и они никак не могли понять, почему я никого не люблю; и они имели привычку хвалить мои картины; и вначале я думала, что они действительно нравились им, и я гордилась их похвалой, и говорила о том Ками, и однажды, — я никогда этого не забуду, — однажды, помню, Ками рассмеялся и стал высмеивать меня.
— А ты не любишь, чтобы над тобой смеялись, Мэзи, не правда ли?
— Я это ненавижу! Я сама никогда ни над кем не смеюсь и никого не высмеиваю, кроме тех случаев, когда они принимают свою плохую работу за хорошую; скажи мне честно, Дик, прошу тебя, что ты думаешь о моих картинах вообще, о всех тех моих работах, какие ты видел.
— По чести! По чести!.. Честь выше всего! — процитировал Дик старинную поговорку. — Прежде скажи мне, что говорит о них Ками.
Мэзи колебалась.
— Он говорит… да, он говорит, что в них есть чувство, — сказала она наконец.
— Как смеешь ты мне так нагло лгать! Вспомни, что я два года работал у Ками. Я хорошо знаю все, что он говорит.
— Это не ложь.
— Это хуже лжи — это полуправда. Склонив голову немного набок, вот так, Ками говорит: «Il у a du sentiment, mais il n'y a pas de parti pris», — и он раскатисто прокартавил r, как это делал Ками.
— Да, он именно это говорил; и я начинаю думать, что он прав.
— Конечно, он прав! — Дик признавал, что только два человека в мире не могли ни думать, ни поступать неправильно, и один из них был Ками.
— А теперь вот и ты говоришь то же самое. Это так обескураживает.
— Мне очень жаль, но ты просила меня сказать тебе правду. И, кроме того, я слишком люблю тебя, чтобы лицемерить. Иногда в твоих работах бывает видно терпение, настойчивость и, впрочем, далеко не всегда, иногда даже видно дарование, но положительно никогда не видно, зачем, собственно, вообще была сделана эта работа, ради чего и с какой целью писана данная картина. Вот, по крайней мере, то впечатление, которое производят на меня твои работы.
— Мне кажется, что и вообще нет никакого специального основания делать что-либо в мире. И это ты знаешь так же хорошо, как я. Я хочу только одного — успеха!
— В таком случае ты идешь не тем путем, каким следует идти, чтобы добиться успеха! Разве Ками никогда не говорил тебе этого?
— Не ссылайся все время на Ками. Я хочу знать, что ты думаешь. Начнем с того, что моя работа плоха.
— Я этого не сказал и не думаю этого.
— В таком случае, она, так сказать, любительская.
— Уж это ни в коем случае. Ты серьезный профессионал, дорогая моя, профессионал до мозга костей, это я уважаю в тебе.
— Ты не смеешься надо мной, у меня за спиной?
— Нет, дорогая! Ведь ты знаешь, что ты мне милее всего на свете. Надень на себя эту накидку, не то ты озябнешь.
Мэзи послушно завернулась в мягкий мех, вывернув накидку серым мехом наружу.
— Это восхитительно, — сказала она и задумчиво потерлась подбородком о нежный мех. — Ну, скажи мне, почему я не права, стараясь добиться успеха?
— Ты уже не права тем, что стараешься. Неужели ты этого не понимаешь, дорогая? Хорошая работа ничего общего с таким старанием не имеет; хорошая работа дается путем усилий того, кто ее делает; она, так сказать, приходит извне, создается сама собой, независимо от художника или художницы.
— Но каким же образом?
— Подожди минуту, я тебе сейчас скажу. Все, что мы можем сделать, это научиться как следует работать, стать господами над красками, кистями и работой, а не их рабами, научиться владеть ими свободно, и заставить кисть и краску слушаться нас, и никогда никого и ничего не бояться.
— Понимаю.
— Все остальное приходит само собой, помимо нас. Хорошо. И если мы станем спокойно вырабатывать и вынашивать наши представления, посланные нам свыше, и станем передавать их, как умеем, на холсте, с помощью нашего искусства, то в результате может получиться, а может и не получиться, недурная работа. Тут многое зависит от того, насколько мы овладели ремеслом, то есть его технической стороной, дающей нам возможность передать все, что мы чувствуем, и передать именно так, как мы чувствуем. Но с того момента, как мы начинаем думать об успехе или о том впечатлении, какое может вызвать наша работа, то есть поглядывать одним глазком на галерку, — мы тотчас же утрачиваем и искру Божию, и вдохновенье, и все остальное. По крайней мере, я постоянно испытывал это на себе. Вместо того чтобы быть совершенно спокойным и всецело отдавать работе все свое дарование, все свои силы и способности, все свои помыслы, словом, все, что в нас есть, ты расходуешь себя по пустякам, думаешь и заботишься о том, чего ты не можешь ни создать, ни отстранить ни на минуту. Понимаешь ты меня?
— Тебе легко теперь говорить в таком духе. То, что ты пишешь, нравится публике. Неужели ты никогда не поглядываешь на галерку?
— Даже слишком часто поглядываю, но я всегда бываю наказан за это тем, что теряю всю силу творчества. Это так же просто, как тройное правило. Когда мы начинаем легко и пренебрежительно относиться к нашей работе, позволяя себе смотреть на нее, как на средство для достижения наших посторонних целей, тогда наша работа платит нам тем же, и так как сила на ее стороне, то страдаем мы!
— Я не отношусь пренебрежительно к своей работе; ты знаешь, что для меня работа — это все!
— Да, конечно, но сознательно или бессознательно, а ты все же разбрасываешься. Из трех мазков два мазка ты кладешь ради успеха, то есть ради своекорыстной цели, и только один ради интересов самой картины или ради святого искусства. Ты не виновата в том, дорогая. Я делаю то же самое и сознаю, что делаю это. Большинство французских школ и все здешние заставляют своих учеников работать ради своей репутации и своего честолюбия. Мне говорили, что весь мир интересуется моей работой, и я добродушно и искренне верил, что мир нуждается в моей мазне, что я призван возродить и облагородить мир своей кистью, и всякой подобной дерзости. Клянусь Богом, я действительно верил этому! И когда моя жалкая башка готова была треснуть от грандиозных замыслов, которые я не мог осуществить и воплотить, потому что я не владел достаточно своим ремеслом, то я слонялся по улицам и дивился своему собственному величию и готовился удивить весь мир.