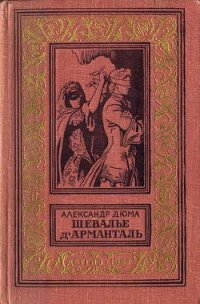Блэк - Дюма Александр (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .txt) 📗
Его можно было принять за большую решетчатую шпалеру, похожую на те, которые ставят вдоль стен наших садов, чтобы по ним поднимались вверх лианы дикого винограда и вьюнка.
Крыша опиралась на столбы.
Она состояла из балок, покрытых красно-черными циновками; в углу валялся матрас, набитый морскими водорослями, с большим белым куском полотна. Это были постель и белье.
В середине комнаты возвышался маленький стол, на котором стояли фрукты, молочные продукты, хлеб.
Все это освещалось с помощью зажженных фитилей, опущенных в сосуды из тыквы, заполненные кокосовым маслом, заменявшие лампы.
Через ажурные стены видны были небо, море и как бы парящий между этими двумя безбрежными стихиями, столь же безбрежный хоровод золотистых звезд.
— Итак, — сказал Думесниль Дьедонне, — ты понял, что ничто тебе не помешает видеть, что творится снаружи.
— Да, мой друг, — ответил шевалье, — но…
— Что но?
— Если мне ничто не мешает видеть происходящее снаружи, то также ничто не помешает человеку, находящемуся вне дома, наблюдать за мной.
— Ты собираешься заняться чем-то плохим?
— Боже сохрани!
— Но тогда чего же тебе бояться?
— Действительно, чего мне бояться? — повторил шевалье.
— Совершенно нечего.
— Нет ни змей, ни ужей, ни крыс?
— Ни одного вредного животного на всем острове.
— Ах! — вздохнул шевалье. — Матильда! Матильда!
— Опять! — вырвалось у Думесниля.
— Нет, друг мой, нет! — вскричал шевалье. — Но если бы она была здесь…
— Что тогда?
— Я никогда бы не вернулся во Францию.
Капитан посмотрел на своего друга и, в свою очередь, не смог сдержать вздоха.
Но как бы сильно один вздох ни был похож на другой, вздох капитана ничем не напоминал вздоха шевалье.
Первый был рожден глубокой печалью; второй — раскаянием.
Глава XI
МААУНИ
Шевалье сел за стол, съел гуайяву, два или три банана, некий неведомый ему фрукт, красный, как клубника, и большой, как яблоко ранета.
Затем вместо хлеба он обмакнул в чашку с кокосовым молоком клубни маниоки; и затем на вопрос друга — а шевалье вступал в разговор только тогда, когда его спрашивали, — объявил, что никогда в жизни еще так славно не ужинал.
После ужина капитану с трудом удалось его уговорить раздеться, чтобы лечь в постель. Эти хлипкие стены — жалюзи тревожили его стыдливость и целомудрие.
И только после того, как Думесниль убедил его, что после десяти часов вечера все жители Папеэти уже лежат в постелях, шевалье решился снять одежду.
И все же, как ни уверял его капитан, что в этом полинезийском Эдеме женщины и мужчины спят обнаженными, испытывая высшее наслаждение, когда их кожу ласкает нежное бархатистое дуновение ночного ветерка, он наотрез отказался расстаться со своей рубашкой и кальсонами.
Уложив шевалье в постель, как он это обычно делал каждый вечер вот уже в течение трех лет, капитан удалился к себе, иначе говоря, во вторую из отведенных им в доме комнатушек.
Две оставшиеся комнаты занимала семья жителей Таити, у которых капитан снял жилье и которые согласно взаимной договоренности незамедлительно освободили две комнаты.
Шевалье не знал об этом; он никогда ничем не интересовался и ни о чем не спрашивал, и поскольку перегородка, отделявшая шевалье от его хозяев, была плотно закрыта, ему и в голову не пришло спросить, что находится по другую ее сторону.
Единственное, что притягивало взор шевалье, когда что-то все же притягивало его взор, была грандиозная, величественная картина природы, которая, казалось, была создана для того, чтобы служить фоном для глубокого чувства. И не забывайте, мы уже говорили об этом, что прошло всего несколько часов, как бедняга Дьедонне вспомнил о том, что у него есть глаза.
Он лег и, постепенно все дальше и дальше возвращаясь в своих воспоминаниях, любовался сквозь отверстия хижины этим прекрасным небом и этим лазурным морем.
В нескольких шагах от хижины, невидимая в зарослях, пела птица; это был соловей Океании, птица любви, великолепный туи, который бодрствует, когда все спят, и поет, когда все кругом замолкает.
Шевалье, опершись на локоть и приблизив лицо к одному из отверстий, слушал и смотрел, его обволакивала некая непередаваемая атмосфера: он испытывал одновременно и грусть, и удивительное чувство блаженства; можно было подумать, что умиротворение этой ночи, чистота этого неба, гармония этого пения материализовались, и все это вместе породило некую очистительную атмосферу, предназначенную самим Провидением для того, чтобы освежить усталые члены и заставить сильнее биться страдающие и измученные сердца.
Шевалье показалось, что впервые за три года он задышал полной грудью.
Вдруг ему послышались легкие летящие шаги ребенка, который шел, едва касаясь травы. И в прозрачной темноте ночи перед его взором возникли очертания прелестной фигурки юной девушки четырнадцати-пятнадцати лет, единственным одеянием которой служили ее длинные волосы, а все украшения ей заменяли два изумительных в своем великолепии цветка лотоса: белый и розовый; того лотоса, который стелется по поверхности мелких рек и ручейков и цветки которого юные таитянки избрали своим любимым украшением, вставляя их гирлянды себе в уши.
Девушка лениво тянула за собой циновку.
В десяти шагах от хижины под апельсиновым деревом напротив зарослей, в которых пел туп, она расстелила эту циновку и улеглась на нее.
Шевалье не знал, что подумать: видит ли он это наяву или во сне, должен ли он закрыть глаза или может держать их по-прежнему открытыми.
Никогда из-под резца скульптора не выходило более прекрасное произведение; но только, казалось, оно было выполнено из флорентийской бронзы, а не из бледного каррарского или паросского мрамора.
Несколько мгновений она забавлялась, слушая пение туи, время от времени движением плеча раскачивая апельсиновое дерево, о которое опиралась спиной и которое осыпало ее дождем своих белоснежных благоухающих цветов.
Затем, не имея никакого другого одеяния, кроме своих длинных волос, которые, впрочем, почти целиком, как покрывалом, окутывали ее фигуру, она плавно опустилась на землю и заснула, прикрыв голову рукой, подобно тому, как птица прячет ее под крыло.
Шевалье, чтобы заснуть, потребовалось гораздо больше времени, и ему это удалось лишь после того, как он повернулся спиной к перегородке и произнес имя Матильды, как щитом заслоняясь им от увиденного.
На следующее утро капитан, войдя в комнату своего друга, нашел его не только проснувшимся, но и уже вполне одетым, хотя едва пробило шесть часов. Шевалье пожаловался, что плохо спал этой ночью. Думесниль предложил ему, дабы поднять настроение, пойти прогуляться, с чем шевалье охотно согласился.
В тот момент, когда они собирались уходить, в перегородке открылась дверь, и в проеме появилась молодая девушка.
Она поинтересовалась у двух друзей, не нуждаются ли они в чем-нибудь. Дьедонне узнал в ней свою спящую красавицу, свое видение минувшей ночи и покраснел до ушей.
На сей раз, однако, она была в своем дневном наряде.
Что представляло из себя ее ночное одеяние, нам известно.
Дневной же наряд состоял из длинного белого платья, совершенно прямого, открытого спереди и ничем не стянутого на шее; поверх этого платья вокруг бедер был обмотан кусок материи типа фуляра с огромными розовыми и желтыми цветами на голубом фоне.
Руки, ступни и ноги до колен оставались обнаженными.
Весь красный, шевалье рассмотрел се более пристально, чего не осмелился сделать прошлой ночью.
Как мы уже сказали, это была девочка четырнадцати лет; однако на Таити четырнадцатилетняя девочка уже женщина. Она была невысокого роста, как это свойственно таитянкам, но при этом прекрасно сложена; ее кожа имела великолепный медный оттенок; у нее были, и об этом нам тоже уже известно, длинные волосы, шелковистые и черные как вороново крыло, красивый разрез бархатистых глаз, опушенных длинными черными ресницами, широкие и раздувающиеся ноздри, напоминающие ноздри индейцев, созданные для того, чтобы вбирать в себя опасность, наслаждение и любовь, выдающиеся скулы, несколько плоский нос, округлый и чувственный рот, белые, как жемчуг, зубы, маленькие, изящные, красивой формы руки, талия, гибкая, как тростинка.