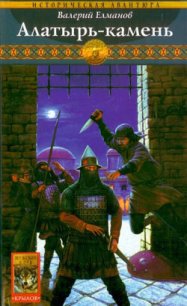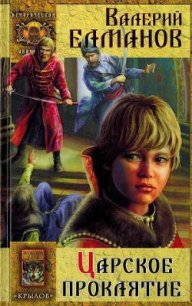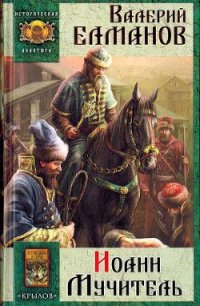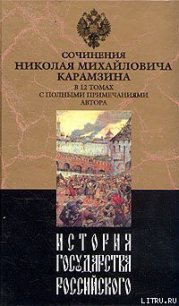Подменыш - Елманов Валерий Иванович (книги бесплатно без .txt) 📗
Казань, отделяемая от войска гладкими, веселыми лугами, которые подобно зеленому сукну растянулись на шести верстах между Волгою и горою, где стояла крепость, стала видна так отчетливо, будто находилась совсем поблизости. Кто позорчее, вполне свободно мог видеть и ее высокие каменные мечети, и округлые, выкрашенные под цвет неба голубые купола дворца, а уж мрачные башни с дубовыми широкими стенами видели все.
К этому времени Иоанн уже два дня как поторапливал боярина Михайла Яковлевича Морозова, чтобы поспешили выгрузить пушки и снаряды из судов, а также рубленые башни и тарасы, которые еще предстояло собрать.
В немалой степени добавил оптимизма царю и приезд некоего Камай-мурзы с семью казаками, изъявившим желание послужить государю, особенно его рассказы о том, что вначале их поехало человек с двести, но казанцы, узнав об этом, почти всех перехватали. Про саму Казань они в один голос рассказывали, что царь Ядигер и его люди — главный мулла Кульшериф, а также вся прочая знать — Изенеш Ногайский, Чапкун, Аталык, Ислам, Аликей Нарыков, Кебек Тюменский и Дербыш, да и прочий народец бить челом государю не хотят, что крепость изрядно наполнена запасами хлебными и ратными, а воев же в ней числом свыше трех десятков тысяч.
Настораживало лишь то, что, оказывается, не все враги засели за крепкими стенами, но лишь половина. Остальное же войско собрано под начальством князя Япанчи в Арской засеке, чтоб там, присовокупив к ним прочих жителей, непрестанными нападениями тревожить стан осаждающих.
Пришлось созывать совет, на котором обсудили, как поступить далее. Приговорили: самому государю и князю Владимиру Андреевичу Старицкому стать на Царском лугу, царю Шиг-Алею — за Булаком, на Арском поле стать большому полку, передовому и удельной дружине князя Владимира Андреевича; полку правой руки с казаками — за Казанкою; сторожевому полку — на устье Булака, а полку левой руке — чуть выше его. На случай внезапного нападения всей рати было приказано, чтоб каждый приготовил по бревну на тын, а также строго-настрого велено, чтоб без царского повеления, а в полках без воеводского повеления, никто не смел бросаться к городу.
Рано утром 23 августа, едва полки заняли назначенные им места, на луг против города вышел царь, повелев развернуть знамя, на котором был нерукотворный образ, а наверху — крест. Последний в точности напоминал тот, что был у великого князя Димитрия Донского. После молебна царь подозвал князя Владимира Андреевича, бояр и воевод, за которыми тесной толпой собрались ратные люди его полка, и сказал:
— Приспело время нашему подвигу! Потщитесь единодушно пострадать за благочестие, за святые церкви, за православную веру христианскую, за единородную нашу братию, православных христиан, терпящих долгий плен…
Говорил он недолго, но чувствовал, что его слова не остались втуне, проникли, дошли до каждого. А князь Владимир Андреевич даже не удержался, заявив в ответ:
— Дерзай, государь, на дела, за которыми пришел!
Иоанн чуть помедлил, усаживаясь на своего аргамака и в то же время понимая, что надо отвечать, что последним должно быть его слово, пусть и очень краткое, но вроде бы уже все сказано, и потому он, взглянув на образ Христа, вышитого на знамени, произнес лишь, обращаясь к нему, словно он мог услышать:
— Владыко! О твоем имени движемся!
Полторы сотни пушек — это силища. Поэтому казанцы решили ударить, не дожидаясь начала артиллерийского обстрела. Едва семитысячный отряд стрельцов и пеших казаков по наведенному мосту перешел тинный Булак, текущий к городу из озера Кабана, и, видя пред собою не более как в двухстах саженях ханские палаты и каменные мечети, полез на высоту, чтобы пройти мимо крепости к Арскому полю, как раздался шум и крик.
Заскрипели плохо смазанные петли на открываемых городских воротах, и оттуда в беспорядке вылетели татары. Трудно сказать, сколько их было, да и кому там считать в такие минуты, но своим неукротимым лихим натиском они поначалу сумели вклиниться в стрелецкий строй, изрядно нарушив его. Юные князья Шемякин и Троекуров все ж таки сдержали бегущих, не допустив паники. Мало-помалу ряды сомкнулись. К тому же вскоре подоспела подмога. Началась отчаянная рубка.
Дело осложнялось тем, что русский строй был полностью пешим, в то время как у татар среди атакующих чуть ли не половина воинов сидела верхом на конях. Тем не менее даже при таком вражеском преимуществе, стоя насмерть, русским ратникам удалось не только остановить врага, но и повернуть его вспять. Вначале медленно, затем все быстрее и быстрее басурмане ринулись обратно под защиту своих стен.
Неведомо, сколько пушек удалось вывести перед отъездом Шиг-Алею, как он в том горделиво похвалялся Иоанну, но одно известно точно — не все, причем далеко не все. Но это стало ясно, лишь когда наседавшие стрельцы и казаки приблизились к городу. Уже первый залп орудий с крепостных стен причинил им немалый урон.
Тем не менее, несмотря на сильную пальбу, отступали они от города нарочито медленно, бравируя возможной опасностью и немножечко похваляясь своим бесстрашием перед прочими полками, которые продолжали направляться к определенным для них местам. Как ни удивительно, но строгий приказ Иоанна был выполнен всеми — никто без его повеления не кинулся поддержать стрельцов, превращая битву в кучу малу.
Но на следующий день чуть было не повторились события двух и четырехлетней давности. Едва войска; стали по намеченному плану, едва расставили шатры и три походные полотняные церкви — архистратига Михаила, великомученицы Екатерины и св. Сергия, едва вечером Иоанн, собрав всех воевод, дал гм все нужные повеления, как наутро пронесшийся ураганный шквал сорвал царский и многие другие шатры. И пускай он оказался скоротечным, но бед успел наделать немало. В довершение ко всему, подняв волну на реке, ураган еще и потопил чуть ли не все суда с припасами, а те, что остались на плаву, как назло, оказались груженными мукой, мгновенно пришедшей в негодность.
Князь Иван Мстиславский, подойдя вечером к Иоанну и с опаской глядя на уставившегося куда-то в сторону заходящего багрового солнца государя, робко произнес, будто размышлял, ничего не предлагав:
— Ну какая ж осада без припасов да без хлеба. Впору сворачиваться.
— А не стыдно?! — зло выкрикнул Иоанн, поворачиваясь к своему набольшему воеводе.
На щеках его двумя светлыми дорожками пролегли следы недавних слез. Это придало смелости Ивану Федоровичу, и он уже более смело заявил:
— Так ведь вона как с небес-то посылает. Никак господь знак подает, что не желает ныне зреть погибели сего града, а супротив всевышнего как пойдешь? Опять же за ослушание он и не такую кару ниспослать может.
— Лжешь, боярин! — с ненавистью глядя на Мстиславского, прошипел Иоанн. — Господь не карает, но лишь испытует человека — достоин ли он того, что взвалил на свои плечи, или нет. Ежели зришь себя недостойным — убирайся! Держать ни тебя, ни прочих не стану! Сам же я отсель ни ногой, разве что в домовине отвезут!
Он скрипнул зубами, замолчав и пытаясь успокоиться, и после недолгой паузы, уже взяв себя в руки, почти спокойным тоном произнес:
— Я повелел в Свияжск послать за припасами да за теплою одежей для воев.
— Нешто там столько сыщется? — усомнился князь.
— Там — нет, — согласился Иоанн. — Только гонцы не в один Свияжск сбираются, но и в Москву. Заодно и серебро для ратников привезут. Я слыхал, что его звон изрядно духа и бодрости добавляет. А понадобится, — прибавил он, — так я здесь и зимовать останусь.
И столько злой убежденности прозвучало в его голосе, что Мстиславский не стал спорить или пытаться что-либо доказать, сделав благоразумный вывод, что если это упорство не ослабнет само собой в ближайшие пару месяцев, то, пожалуй, и в самом деле придется оставаться под Казанью на зимовку.
Начиная с этого дня государь и впрямь преобразился. Он и раньше поражал своей неугомонностью, пытаясь вникнуть чуть ли не во все мелочи, а тут и вовсе мотался по своим раскиданным полкам и днем и ночью, время от времени поглядывая на ставший для него ненавистным город и что-то шепча про себя. Никто не ведал, что именно, потому что было только заметно, как шевелятся его губы, но любой мог бы поручиться, что при всей набожности Иоанна навряд ли это были слова молитвы или какой-нибудь псалом. Ну разве что такой, где призывалась ярость и месть господня.