Замурованная царица - Мордовцев Даниил Лукич (книга жизни .txt) 📗
Теперь оставалось передопросить Абану, не найдется ли в его показаниях той нитки, которая с болезненным припадком Аталы ускользнула из рук судей.
И Абану вновь ввели в палату суда.
— Абана, сын Аамеса! — снова начал Монтуемтауи. — Ты видел и понял, что многое открылось пред лицом Озириса из того, что ты хотел скрыть от нас и от всевидящего божества. Теперь скажи, что тебе известно из того, что открыла пред очами суда Атала?
— Я все сказал, что знаю, — отвечал Абана.
— Да, ты признался в том, что скрывал пред нашими очами и в чем тебя уличили, а уличили тебя в том, что ты видел Лаодику уже в Фивах и для убийства ее дал свой меч Атале. А что ты знаешь о том, будто ее подвинули на убийство, кроме тебя, еще и другие? Кто они?
— Я не знаю.
— Какие твои отношения к женскому дому?
Никаких. Из всего женского дома я лично знал Атаулу, с которой познакомился в доме ее отца.
— А какие твои отношения были к ее святейшеству царице Тии?
— Никаких. Я видел ее только издали, в священных процессиях.
— А с начальником женского дома, Бокакамоном?
— Никаких.
— А с Пенхи, бывшим смотрителем стад фараона?
— Никаких. Я его совсем не знаю.
— Скажи еще, Абана, сын Аамеса, какое участие в убийстве Лаодики мог принимать верховный жрец богини Сохет, Ири? Его имя также упомянула Атала, твоя сообщница.
Признавайся.
— Я ничего не знаю, больше мне не в чем сознаваться, — угрюмо отвечал Абана, видимо утомленный и физически, и нравственно.
Монтуемтауи помолчал несколько. Из ответов Абаны он мог заключить, что этот преступник или упорно отмалчивается, или изворачивается, или же совсем не причастен к заговору, а замешан в одном лишь убийстве Лаодики. По крайней мере, по отношению к заговору его ни в чем нельзя было уличить или поймать на противоречии, на сбивчивом показании. И Монтуемтауи снова приказал отвести его в комнату ожидания.
Но надо же было что-нибудь предпринять для раскрытия заговора. Но что предпринять? Атала указала на таких лиц, что даже страшно было подумать о привлечении их к следствию. Тут замешаны супруга фараона, наследник престола, верховный жрец богини Сохет и начальник женского дома. Необходимо об этом страшном открытии доложить Рамзесу.
— Но имеем ли мы какие-либо основания заподозрить ее святейшество? — решился возразить Хора.
— Это правда, — согласился Монтуемтауи, — но имеем ли мы право скрыть что-либо от его святейшества фараона?
— А если Атала говорила все это в болезненном бреду? — снова возразил Хора. — Или еще хуже: если она думала свое преступление взвалить на плечи таких особ, о которых нам и думать страшно?
— Как же быть? — спросил носитель опахала Каро.
— Мне кажется, — отвечал Хора, — надо прежде потребовать от Аталы доказательств, фактов.
— Но уж и без фактов слова ее слишком важны.
— Потому нам и следует быть еще более осмотрительными, — настаивал на своем Хора, — надо Аталу допросить обстоятельнее, в ее показании я не вижу смысла, девчонка убила соперницу из ревности и вдруг к своему личному делу припутывает священные имена.
— Мне также кажется, что докладывать об этом теперь же его святейшеству преждевременно, — заметил еще один из судей, худой и сморщенный, как старый финик, по имени Пенренну, занимавший должность царского переводчика.
— В таком случае надо допросить Аталу, — сказал председатель. — Пригласите сюда Бокакамона, смотрителя женского дома, — обратился он к писцам.
Вскоре в палату суда вошел Бокакамон. При входе он обменялся со знаменосцем Хора быстрым тревожным взглядом.
— Суд Озириса снова требует пред лицо свое девицу Аталу, дочь Таинахтты, — сказал пришедшему председатель.
— Дочь Таинахтты не может явиться пред лицо Озириса, — отвечал Бокакамон.
— Почему?
— Боги помешали ее рассудок.
— Что ж она? Заговаривается?
— Да, говорит несообразности… Полное безумие…
— Какие же несообразности? — допытывал председатель.
— Говорит речи, противные богам, — уклончиво отвечал Бокакамон.
— Какие же? Все относительно убийства дочери троянского царя?
— И другие речи, которых я не смею повторить.
— Отчего же? Пред лицом Озириса мы обязаны все говорить.
— Но она бредит.
— Мы, смертные, бредом называем иногда то, что устами смертного говорит само божество; боги говорят к смертным иносказательно, таинственно, и мы должны разгадывать скрытый в этом таинственный смысл — волю божества. Что же Атала говорит? — настойчиво спросил Монтуемтауи, следя за выражением лица Бокакамона. — Мы Должны все знать — такова воля его святейшества, носителя царского символа справедливости пред лицом царя богов, Аммона-Ра, и пред лицом князя вечности, Озириса, священное изображение которого глядит теперь на тебя и ждет твоего ответа.
Бокакамон с тревогой взглянул на изображение Озириса.
— Она говорит о каких-то восковых фигурах, о богах из воска, о маленькой девочке, которой великий бог Апис передал через очи свою божественную силу, — говорил Бокакамон в глубоком смущении.
— Она говорила это и здесь, перед лицом Озириса, сказал Монтуемтауи, — это не бред — это в ней говорил дух божества. А что еще говорит она?
— О богине Сохет и ее верховном жреце Ири… а потом о Пенхи, об Имери…
— Об Имери! О верховном жреце бога Хормаху?
— Да, о нем… поминала и о советниках его святейшества — о Пилока и о ливийце Инини, что участвовали в похищении у Абаны дочери троянского царя, Лаодики…
В это время страж, стоявший у двери суда, тревожно воскликнул:
— Сюда жалует его святейшество фараон Рамзес!
Минута была критическая. Как должны были поступить судьи?
XXIII. ПРОВОДЫ ТЕЛА ЛАОДИКИ
Смерть Лаодики поразила своей неожиданностью и глубоким трагизмом. Думала ли несчастная дочь злополучного Приама, сестра Гектора и Кассандры, после всех пережитых ею и ее бедной родиной ужасов, найти смерть в далеком Египте от руки убийцы? Действительно, печальнее участи, какая постигла Приама и весь род его, едва ли найдется другой пример в истории.
Даже Рамзес, для которого ничего не стоило опустошить целые страны, вырезывать или забирать в плен их население, их царей, жен и дочерей, даже Рамзес-Рампсинит был глубоко огорчен трагической кончиной юной дочери Приама, нежная красота которой так очаровала его, что он готов был для нее пожертвовать не только своей законной женой, царицей Тией, но и прелестной Изидой, обворожившей его своей иудейской красотой. Но неутешнее всех была юная Снат-Нитокрис и царевичи Пентаур и Меритум. Для них после потери сестры Нофруры начались новые «дни плача», как и для старой Херсе.
Едва Рамзес увидел мертвым прелестное личико Лаодики, как тотчас же приказал жрецам приготовить ее тело к погребению с царской пышностью, а придворным зодчим и другим мастерам — изготовить для нее богатый саркофаг из красного порфира, а равно вырубить в своем семейном склепе погребальную камору рядом с каморой недавно погребенной дочери своей, Нофруры, и деревянную резьбу каморы приготовить из лучших пород деревьев — из драгоценного «кет», из красного и черного дерева и из сикомора.
В самый день смерти Лаодики, когда во дворец явились со своими носилками жрецы храма Озириса, чтобы отнести тело убитой в очистительную палату этого храма, Херсе едва могли оторвать от трупа ее любимицы. Неутешно плакала и юная Нитокрис, следуя за телом безвременно погибшей сиротки, к которой прелестная дочь фараона успела так горячо привязаться. Почти как и за телом Нофруры, за носилками Лаодики следовала толпа народа.
Внимание всех обращала на себя также одна маленькая, горько плакавшая девочка.
— Чья это девочка, что так горько плачет? — спросил Инини, тот энергичный ливиец, которого мы видели под Мемфисом, когда он и друг его Пилока возвращались из долины газелей, где они охотились на льва, а потом в тени храма Хормаху под гигантским сфинксом встретили жреца этого храма Имери и Адирому, возвращавшегося из троянского плена, вернее, из города Карфаго после отплытия оттуда Энея. — Как плачет бедненькая.
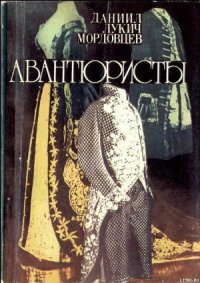



![Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] - Мордовцев Даниил Лукич (читаемые книги читать .txt) 📗](/uploads/posts/books/18833/18833.jpg)