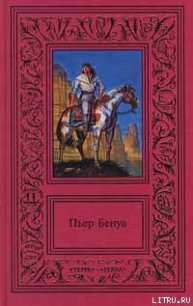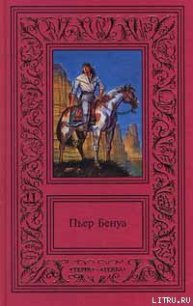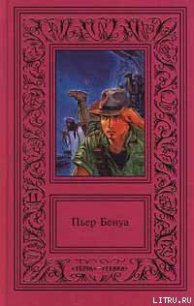Владетельница ливанского замка - Бенуа Пьер (книга регистрации .TXT) 📗
Я опять закрыл дверь. Лег, потушил лампу. С моей постели через щель я все еще видел на стене светлый квадрат, отбрасываемый лампой Ательстаны. Мои мысли снова обратились к Бадиа и леди Стэнхоп. В Дамаске, где они встретились, они, быть может, также спали под одной кровлей. Внешняя сердечность их отношений позволяла это двум противникам: он жил только для великого плана создания франко-мусульманской империи, она — вся была во власти мечтаний об арабской гегемонии, но уже съедаемая денежными заботами. Они простились. Бадиа отправился по Меккской дороге, и в одно прекрасное утро, в Калаат-эль-Белька, выпив безобидную чашку кофе, он умер. Сто лет! Равно сто лет прошло с тех пор. Доколе же будет продолжаться это ужасное соперничество! Я почувствовал, что на лбу у меня выступает пот.
Светлый квадрат все еще желтел на стене напротив меня. Я не заметил, как он исчез, — я задремал. Рассказчик, который не руководился бы одной суровой истиной, мог бы распространиться тут о привидевшемся мне сне: например, как Гобсон толкал меня к женщине, похожей, как двойник, на Ательстану, я прижимал ее к своей груди и вдруг заметил в ужасе, что сжимаю в объятиях скелет, — скелет леди Стэнхоп… Увы! Верный гораздо более будничной действительности, я должен сказать, что проспал мертвым сном до шести часов утра.
Около десяти часов, после легкого завтрака, мы простились с монахами монастыря Христа Спасителя и начали подниматься по обрывистым откосам Дахр-эс-Ситта. Голый каменистый холм. Какое унылое место!
— Оставим наших лошадей Гассану, — сказала Ательстана, — становится слишком круто.
Мы продолжили подниматься пешком, карабкаясь на скалы при помощи рук.
Наконец мы достигли вершины скалы, на которой виднелись только какие-то печальные развалины. Часть их пошла на сооружение хижины — двух жалких комнат, служивших приютом монастырскому фермеру, его матери и молодой жене. Эти честные люди ждали нас на краю плоскогорья. Ательстана, поблагодарив, отослала их. Она хотела сама показать мне эти мрачные руины.
Она водила меня, шагая через обломки стен, и говорила тихо, прерывавшимся голосом.
— Теперь ты можешь понять, — говорила она, — в чем заключается е е ошибка. Решительное непризнание могущества прошлых времен, чрезмерная уверенность в самой себе. И вот результат ее стремлений: заросли крапивы, рассыпанные каменья, на которых ящерицы греют свои животы. Я же знаю, что, когда рассыплется мишура, которую я нацепила на стены Калаат-эль-Тахара, они все-таки устоят перед тысячелетиями. Но взгляни в эту дыру…
— Что это?
— Это одна из отдушин ее застенков. У нее были тюрьмы, палачи, право карать и миловать, дарованное ей султаном Махмудом. Никто не презирал так человеческую жизнь, как эта женщина… Тише!
Мы оставили развалины и прошли в маленькую оливковую рощу. Спокойная торжественность царила в ее тени. Эти деревья поистине были древним lucus. В двадцати метрах виднелось белое пятно мавзолея.
Графиня Орлова схватила меня за руку:
— Клянись мне, клянись мне, что ты никогда никого сюда не приведешь!
— Что ты хочешь этим сказать? Она нервно засмеялась:
— Разве ты не понял? Банда развязных туристов набросилась бы на это место! Какой-нибудь господин, желающий иметь вид знатока; ищущие развлечений мужчины и женщины; пена откупориваемого шампанского, девушка на выданье, потерявшая ключ от коробки с сардинками… Неужели ты думаешь, что для этого…
Она не могла кончить. Голос ее осекся. С удивлением я заметил слезы на ее глазах.
— Ательстана…
— Тише, — сказала она. — Не обращай внимания. Не думай, что я сумасшедшая. Когда мы плачем, — видишь ли, — мы плачем немножко над самими собой…
Она ходила вокруг могилы, останавливаясь, потом преклоняла колени перед каменными ступенями, чтобы вырвать травы, проросшие в щелях. В эту минуту она напоминала старух, которые ухаживают на кладбищах за могилами своих дорогих покойников.
— Отдаешь ли ты себе отчет в том, что представляла из себя женщина, прах которой покоится здесь? Завтра, если бы ты рассказал мою жизнь, нашлось бы немало остряков и идиотов, которые кричали бы о неправдоподобии этого. А моя жизнь, несмотря на все, что я смогу сделать, чтобы возвысить ее, будет все-таки только бледным отражением ее жизни.
Она закончила свою благочестивую уборку и надела перчатки.
— Я постараюсь объяснить тебе ее. Она презирала Наполеона. «Он был сначала просто бедным молодым человеком», — сказал о нем знаменитый юноша, начав хвалебную речь в честь этого героя. Действительно, всю жизнь носил он на себе пятно своего происхождения. А она, — ты знаешь ее богатство и блестящую родословную! Не следует слишком злословить про высшее английское общество конца восемнадцатого века. Несмотря на неисправимую посредственность умов, у него все-таки были кое-какие заслуги, кроме парламентских установлений и улучшения породы скаковых лошадей. Подумай о первых шагах этой девочки, которая в двадцать лет стала королевой Лондона! Подумай о Шелли, Байроне, Фоксе, Нельсоне, Брюммеле и об этой леди Гамильтон, ради которой я, женщина, с радостью отдала бы свою жизнь. И все это она сознательно покинула. Ни в каких обстоятельствах жизни не могла она оказаться выскочкой. Это-то и было прекрасно и это объяснит тебе ее суждение о Наполеоне. Но что еще прекраснее, так это сходство их честолюбивых замыслов. Молодой победитель Италии говорил в 1798 году: «Все изнашивается в Париже. У меня больше нет славы. Надо отправиться на Восток. Все великое исходит оттуда…» И он собирал своих солдат, в то самое время, когда племянница Питта, для той же авантюры, собирала свои богатства. Но насколько она проявила больше постоянства в этом великом замысле! Пойди сюда!
Она повела меня к южной части плоскогорья, где находился мавзолей. Ливанские горы, испещренные пятнами света, уходили волнами к морю. Она указала мне на самой возвышенной из них, вдалеке, розовую крышу.
— Видишь этот дом? Он принадлежит мудиру Набатиэ, Гу-сейн-бею-дервишу. Мне рассказывали, что с его террасы виден весь Ливан и две трети Сирийского побережья, от Хайфы до Триполи. Я захотела пойти поглядеть. Я не могла этому поверить. Но те, кто рассказал мне это, оказались правы. Какой вид! Позади — Гермон, хранящий обломки древнейших храмов древнего мира, — и там же берет свое начало река нового мира, Иордан. Напротив — Сидон, Сарепта, Тир, а там, налево, в Кармильском заливе, — мусульманский городок… Слушай хорошенько! — бедный городок, тихо умирающий у моря: Акка, Сен-Жан-д'Арк, — понимаешь? Вот где Бонапарт окончательно показал себя ниже своей судьбы. Да, впоследствии, несмотря на Аустерлиц и прочее, он только прозябал до самого Ватерлоо. Он должен был бросить Директорию, — ведь совесть его не стесняла, не правда ли? И, повернувшись спиной к Сен-Жан-д'Арк, идти на восток, все дальше и дальше, как две тысячи лет назад шел Македонец. Но, недогадливый человек, он думал о своих зачумленных солдатах и о жене, которая его обманывала, — о жене, этой маленькой дурочке, взамен которой Азия предложила бы ему всех своих Роксан и всех своих Барсин. О, какая бы это была судьба! Углубиться, не поворачивая головы, в сердце материков, объединить на своем пути бедуинов, персов, индусов, проехать вниз по реке Асезине, проникнуть в Серингапатан, расшевелить горячую еще золу Типпо-Саибо… Не думаешь ли ты, что это было бы красивее, чем поспешно вернуться, для того чтобы вышвырнуть нескольких депутатов, проделать горный поход и рисковать быть разбитым, кем? — стареньким австрийским генералом… Он оказался ниже того, что мог бы сделать. Она же была выше того, что сделала.
Я смотрел на нее в то время, как она говорила. Та ли это женщина, которая флиртовала в бейрутских салонах с бледными кретинами или проводила целые ночи за покером? О, эта чудесная земля Азия, где женщина может так свободно предаваться то политике, то вакханалии, и если перестает на минуту участвовать в шествии Адониса, то лишь для того, чтобы присоединиться к шествию Зеновии!