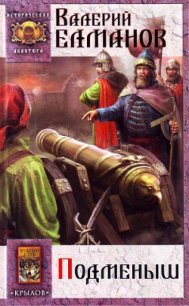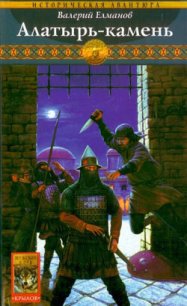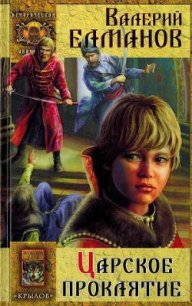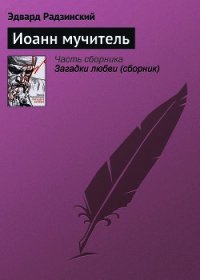Иоанн Мучитель - Елманов Валерий Иванович (читать полную версию книги .txt) 📗
— А они, выходит, и на щеку не поглядели, — хмыкнул Третьяк.
— Слыхала чтой-то матерь, когда ты в бреду глаголил, потому и признала. Сказывала, окромя вас двоих об ентом ни единой живой душе неведомо. А Желана-то просто уперлась. — И усмехнулся невесело. — Я, грит, душу его чую. Святая она. Так что истинный царь у нас лежит, и не сумлевайся в том. Ну а когда я на другой день Епиху обо всем расспросил да выпытал, как царь Иоанн за поджигателями гонялся, тут-то у меня в голове все и сложилось. Приехал сюда и вновь в сумненье впал — уж больно здорово лицо у тебя попорчено. Так и маялся душой, покамест тот, что ныне на твое место уселся, на другой день опосля похорон в палатах пир не закатил, да вместо поминок гульбу затеял. Тут уж мне и вовсе понятно все стало…
— Погоди, погоди, — остановил стрельца Третьяк. — Опосля каких похорон? И какие поминки? — а в сердце уж все похолодело, будто туда плеснули мертвой водой и тут же окатили не пойми чем, но жгуче-огненным. Заново заполыхавший огонь все ширился, а Тихон по-прежнему молчал, стараясь не глядеть в глаза, а затем и вовсе вскочил с места и опрометью кинулся прочь, но, уже отдернув занавеску, обернулся и глухо произнес:
— Померла голубка твоя сизокрылая.
До Третьяка не вдруг дошло. В уши-то попало, а вот далее… Некоторое время он недоуменно смотрел на Тихона, размышляя, что тот сказал и какую голубку имел в виду. Лишь через минуту понял.
— Стало быть, не послышался мне колокольный перебор, — произнес он медленно.
— Ты уж прости за худую весточку, — почти выкрикнул молодой сотник, да с тем сразу и выбежал.
А может, и не сразу, потому что пред глазами Третьяка тут же все поплыло, заволокло пеленой, а в груди уже не огонь — пожар целый. Пламя адское, и то, пожалуй, с такой яростью не полыхало, не припекало грешников, как его сейчас. После услышанного он если и приходил в себя, то ненадолго, ровно до того момента, пока не вспоминал о постигшей его утрате, и вновь уходил в спасительное небытие.
Очнувшись в очередной раз, увидел пред собой Настену. Говорить что-либо не хотелось да и жить, честно говоря, тоже, потому больше молчал, зато ворожея старалась за двоих, рассказывая своим хрипловатым низким голосом одну новость за другой. Говорила она долго, не меньше часа, хотя явно видела, что Третьяк ее даже не слушает, а потом, придвинувшись поближе, завела речь о главном.
— Помнишь ли, что тебе сказывала, будто опосля похорон свово суженого мне и жить-то не хотелось?
— Это когда первый раз мы повстречались, — чуть ли не против своей воли произнес Третьяк.
Он бы и вовсе ничего не сказал в ответ, но напоминанием о том, как ей тогда, в точности как ему сейчас, было до того худо, что даже не хотелось жить, приблизило Настену, чуточку сроднив ее с его нынешним горем. И опять-таки встреча та случилась в те славные времена, когда Анастасия была еще жива, весела и здорова.
— Тогда, — подтвердила Настена, неотрывно глядя на Третьяка своими глазищами, зрачки которых успели заметно потемнеть. Это были уже не глаза матери молодого стрельца Тихона. Скорее уж очи Сычихи.
— Помню.
— А помнишь, яко сказывала, что така тоска на рудь навалилась, прямо хошь руки на себя накладывай? И хотелось наложить. Не будь детей — не задумывалась бы ничуть — али задавилась бы в лесу, али в омут головой. А гляну на них и сама себе укорот даю, кляну нещадно. Что ж ты, стервь така, учинить решила?! А о них подумала?! Им же горемышным опосля того тока и останется, что с голодухи подохнуть! Али креста на тебе нетути?! Тем и выжила. Вот и ты тоже о них подумай. У меня пятеро было, но и у тебя — двое. Хошь незримо, а все ж как-никак защита. Он, тебя опасаючись, их нипочем не тронет, как бы ни хотел, а и восхочет — ты не дашь.
— Это как же я ухитрюсь? — недовольно буркнул Третьяк.
— А на то и голова дана, чтоб исхитряться, — отрезала Сычиха. — Приспичит — учинишь что ни то. Но лишь покамест живой. А мертвяком станешь, так и вовсе им не подсобишь. Потом и надо жить, царь-батюшка, вот и весь мой сказ. Ну, надо, и все тут. К тому ж не просто так ты уцелел-то. Нож-то аккурат в сердце шел, да вишь, помеха тому учинилась. Поглянь-ка сам. — И с этими словами выложила прямо на постель серебряный рубль.
Монета как монета, только начиная с середины и вверх кто-то процарапал по ней полосу. Разглядывая ее, Третьяк даже не сразу понял, откуда взялась эта царапина. Лишь спустя несколько минут до него дошло: «Так это же от ножа». И удивился. Если рубль защитил его от убийц, закрыв сердце, то, выходит, монета была у него на груди, но как она там очутилась? И добро бы — кошель за пазухой был, так ведь нет. Тогда как она там вообще держалась? Кто и чем ее прилепил?
Он так и не смог ответить на все вопросы, которые задавал сам себе, пока не устал и не задремал, продолжая крепко сжимать рубль в кулаке. Ответ пришел во время сна, и дал его старый знакомый Васятка. Невесть откуда появившийся на паперти деревянной ветхой церкви во имя святой Троицы, которую вроде бы давным давно снесли, юродивый сидел, блаженно жмурясь от яркого солнышка, слепившего ему глаза. Подошедшего к нему Третьяка он будто не замечал, а Третьяк и не знал толком, как бы к нему половчее обратиться. Какая-то непонятная робость мешала ему это сделать, а Васятка все никак не хотел открывать глаза. Тогда Третьяк встал так, чтобы закрыть ему солнце. Оказавшись в тени, юродивый очнулся от неги, склонил голову набок и испытующе посмотрел на бывшего государя.
— Что, худо, поди? — спросил он чуть насмешливо. — Я вить сказывал твоему боярину, да он меня не послушался, забыл, что во многая мудрости есть многая печали… Коли что предначертано, то уж так тому и быть, а начнешь поправлять, дак, гляди, кабы хужее не сталось, — вздохнул он печально. — Хорошо, что ты мне рублевика не пожалел тогда. Вот он и сгодился.
— Так это ты меня им защитил?! — ахнул Третьяк.
— Ну а кто ж еще. Тока гляди, Ванятка, — строго погрозил он пальцем, — сызнова исправлять не удумай, а то и вовсе большое худо приключится. Потому я и дозволил, чтоб тебе щеку головня прижгла. Она тебе словно печать станет, чтоб диавол вдругорядь не соблазнил. Щека что — поболит да пройдет, а жив будешь.
— Я буду, а дети? — с замиранием сердца спросил Третьяк.
— Ишь ты какой! — посуровел голос Василия. — Откуда ж я столько силов возьму, чтоб еще и их защитить? К тому ж не сироты они, пока их отец жив. Вот ты и думай, — чуть ли не дословно повторил он слова Настены. — А сюда не торопись поскорее угодить. Тут, конечно, хорошо — с землей не сравнить, но уж больно скушно, так что поживи еще. И рублик-то дай сюды.
С этими словами он протянул руку. Как ни удивительно, но ладонь юродивого, обычно чумазая, с черной каймой грязи под длинными ногтями, на сей раз была чистой и какой-то по-младенчески розовогладкой. Третьяк чуть поколебался, но затем вложил все-таки в нее серебряную монету. Едва Васятка сжал ладошку в кулак, как тут же пропал из виду. Вот был только что, и вдруг на тебе. И главное — куда исчез? Кругом-то все голо и пусто.
— Ты где?! — отчаянно закричал Третьяк и… проснулся.
Спохватился он о пропаже рублевика не сразу, лишь к вечеру. Расспросы ничего не дали — никто монету из кулака не вынимал. Может, сам выронил? Но пол в горенке Василиса каждый день подметала и мыла, так что непременно нашла бы. Получалось… Впрочем, получалось такое, что в голове не укладывалось, и потому Третьяк строго-настрого запретил себе даже думать об этом. А вот слова юродивого отчего-то врезались, запали в душу. Вроде бы он их особо и не вспоминал, ан все едино — дня не проходило, чтобы Васяткин голос не всплыл в памяти: «Поживи еще, поживи еще, поживи еще…».
И Третьяк… стал жить.
Правда, разговаривал пока мало — в основном лишь отвечал на вопросы, да и то кратко и односложно. Остальное время думал. Мысли были безрадостные, но требовалось найти выход, и потому он заставлял себя размышлять, неспешно перебирая скудные возможности доказать свое право на престол и раз за разом отметая их в сторону.