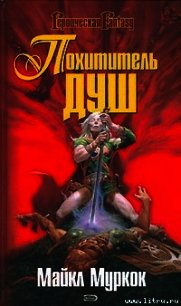Карфаген смеется - Муркок Майкл Джон (читать книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Я проснулся всего через полчаса или чуть позже. Леда по–прежнему сидела рядом.
— Ты должен простить меня, если я несколько странно себя вела нынче утром, — нежно заметила она. — Я думала, что ты неестественно холоден со мной. Теперь я понимаю, что ты был болен. Все еще хочешь договориться о встрече в Константинополе? — Она взяла влажный платок и отерла мой лоб. — Есть ресторан, куда ходят русские. Если мы расстанемся, то разыщем друг друга в «Токатлиане».
— Я запомню. — Я говорил очень тихо. Меня все еще удивляло, что я остался в живых.
Она смочила водой мои губы.
— Бедный маленький старый мореход [61].
Это сравнение показалось мне непонятным, и теперь оно не стало яснее. Я никогда не видел альбатроса, уже не говоря о том, что никогда не убивал альбатроса стрелой. Меня всегда беспокоили люди, которым нравятся литературные параллели. Стихи и рассказы, которые они читали, что–то значили только для них и не имели практически никакого отношения к действительности. Но она была романтична, моя баронесса, и, наверное, я любил ее именно за это. Возможно, я чрезмерно погружен в науку. Я знал многих великих поэтов. И мало кто из них показался мне нормальным здоровым человеком. Что касается новой школы Т. С. Элиота [62] и ее попыток прославить язык и нравы трущоб, то у меня все это вызывает отвращение. Я наслушался подобной дряни на родине, когда люди вроде Мандельштама и Маяковского использовали жаргон, чтобы порадовать своих красных покровителей. Я не вижу ничего хорошего в том, что футбольные хулиганы и мелкая шпана возводятся в ранг полубогов.
Баронесса прикрыла лампу, когда я объяснил, что свет вреден моим глазам. Может, я хотел, чтобы она мне почитала? Я спросил, можно ли отыскать на корабле газету, предпочтительно английскую. Леда где–то видела каирскую «Таймс». Она отправилась на поиски. Не знаю, кто меня раздевал, но на мне была чужая пижама. Я попытался найти свою одежду, чтобы выяснить, не осталось ли в карманах кокаина. Но одежду, по–видимому, унесли на дезинфекцию. Я задумался, почему назначен такой короткий срок карантина. Теперь стало очевидно, что все опасались паники из–за сыпного тифа. По этой причине мой приступ объяснили истощением и перевозбуждением. Я тогда был слишком наивен и не мог понять, как часто власти руководствовались в своих действиях сиюминутной выгодой.
Леда вернулась и принесла газету. Там было полно новостей о мирных конференциях и политических решениях. Нашлось несколько упоминаний о России: мистер такой–то собирался вступить в переговоры с мистером Лениным или мистером Троцким. Более содержательными оказались обычные отчеты из Лондона: король побывал на строительстве нового дирижабля, Ллойд Джордж произнес очередную речь, в которой проявился его крайний радикализм, в конечном счете уничтоживший и его, и его партию. Звучало немало предостережений о разгуле социализма в Англии. Германии уже угрожало красное нашествие, как и Франции и Италии (там Ватикан вступил в союз с коммунистами). Страдания России почти никого ничему не научили. Неужели люди и впрямь завидовали нашей смертельной борьбе? Я сказал Леде, что хотел бы услышать о победах людей, а не об их безумии. После этого она почти сразу прекратила чтение.
Еще два дня я лежал в каюте капитана, пил безвкусный бульон, принимал мерзкие лекарства. Наконец старательный медик с одутловатым лицом, который брезговал ко мне прикасаться, объявил, что я здоров. Миссис Корнелиус к тому времени переехала в Перу и остановилась в «Паласе». Корабль покинул Скутари и достиг европейской части города, мои бумаги и вещи были продезинфицированы. Я мог покинуть «Рио–Круз» когда угодно. Джек Брэгг помог баронессе подыскать временное жилье в немецкой семье, неподалеку от артиллерийских казарм. Мое помещение располагалось ближе, в центральной части Перы. В этой части доков Галаты не было такси (Галата и Пера находились на Босфорском берегу понтонного моста), и мне посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Капитан Монье–Уилльямс пожал мне руку и пообещал, что мой багаж переправят в отель. Я передал наилучшие пожелания Томпсону и Брэггу, уже сошедшим на берег, потом упаковал маленькую сумку, все еще чувствуя слабость, прошел по палубе опустевшего «Рио–Круза» и спустился по трапу на каменные плиты пристани. Оказавшись на твердой земле после длительного перерыва, я долго не мог привыкнуть к позабытым ощущениям. Сержант провел меня через ограждение, мимо серых респектабельных таможенных контор, мы вышли на оживленную улицу, где здания оказались с виду гораздо менее презентабельными — ободранная побелка, рваные плакаты, осыпающаяся краска, разбитые окна. Сержант приподнял руку, в которой держал мелкую монету.
— Вот там вы можете сесть в трамвай, — сказал он и указал на грязный зеленый знак. — Вам нужен номер один.
Он развернулся и зашагал прочь. На холмах еще было светло, а внизу уже лежал туман.
На мгновение я почувствовал себя всеми покинутым. Я с огорчением подумал, что капитан мог бы поступить и повежливее — по крайней мере, приказать матросу сопроводить меня до отеля. Позже, однако, я почувствовал благодарность за этот новый опыт. Посреди нового города всегда лучше остаться в одиночестве — так можно быстро узнать дорогу, выяснить, на каких языках говорят местные жители, и так далее. Французским я владел слабее всех прочих языков, но обнаружил, что этих знаний вполне достаточно. Я вспомнил почти все слова, когда начал обращать внимание на знаки и рекламные объявления. Половина была на французском. Номер 1, как мне сказали, шел до Гран Шамп де Морт, кладбища для иностранцев. Мне нужно было сойти на Пти Шамп. Я ждал на узком грязном тротуаре, окруженном десятками ветхих зданий, пытаясь сберечь свои вещи. Дома, расположенные на причале, закрывали мне вид на гавань, но я мог разглядеть отдельные мачты и трубы и осмотреть Галатский мост. Потоки людей перемещались по нему взад и вперед, между Стамбулом и Галатой. У остановки трамвая было несколько магазинов с грязными окнами, там продавали дрянную мебель, старинные безделушки, лампы и столы с инкрустацией. Со всех сторон двигались толпы, медленно, но на удивление оживленно. Именно такого многообразия я и ожидал: турки, армяне, белые, евреи, русские, а еще моряки из всех крупных европейских стран. Однако ни один белый человек не мог пройти по улице и нескольких ярдов — почти сразу же рядом появлялись докучливые еврейские нищие. Как ни были увечны эти евреи, они все равно тянули к прохожим искривленные пальцы.
Мрачные улицы, уводившие вверх, к Пере, казались таинственными ущельями. Во многих проулках виднелись огромные лестничные пролеты — настолько резким был подъем. Там ютились самые разнообразные нищие, продавцы ковров, масла, конфет. Кое–где мальчики на велосипедах, к которым были привязаны автомобильные клаксоны, пытались пробраться сквозь скопище автомобилей, ослов, арб, изящных экипажей и даже портшезов. Эти переулки насквозь провоняли лошадиным навозом, собачатиной, человеческой мочой, кофе, жареной бараниной, табаком, специями и духами. Женщины в чадрах были почти столь же многочисленны, как мужчины, их глаза сверкали сквозь прорези покрывал, как камешки на дне реки. Я знал, что иностранцам не следовало проявлять интерес к турецким дамам, и старался не встречаться с ними взглядами. Я и так боялся, что мне перережут горло из–за золота. Не стоило рисковать из–за пустяков.
В конце концов, потрескивая и звеня, к остановке подошел грязнозеленый трамвай номер 1. Его медные и деревянные детали были покрыты такими вмятинами и царапинами, как будто вагон побывал на передовой. Когда я попытался подняться на подножку, то попал прямо в гущу толпы. Отовсюду внезапно появились турки в фесках, греки в котелках, армяне в каракулевых шапках. Меня понесло вверх, и времени хватило только на то, чтобы отдать серебряную монету за билет первого класса с французской надписью. Проводник небрежно забрал деньги, взял меня за руку и потянул в заднюю часть трамвая, где было меньше людей. Когда я начал садиться на одну из деревянных скамей, со всех сторон послышалось возмущенное шипение. Черные глаза ярко сверкали из–под покрывал. Я с ужасом понял, что оказался в секции «только для дам». Проводник увидел меня. Он закричал по–турецки, сурово указывая на знак, почти совершенно стертый, который было невозможно прочесть. Покраснев, я в конце концов устроился возле благородного черкеса в длинной шинели с патронташами на груди и мягких сапогах для верховой езды. Черкес держал на коленях портфель и поглаживал длинные седые усы, которые спускались ему на грудь, словно хвосты мохнатых грызунов. Он смотрел в окно на уличные толпы. Я сказал ему по–русски: «Доброе утро!», но ответа не получил. Заморосил дождь. Трамвай сильно трясся, останавливался, затем продолжал тягостное путешествие по крутым, извилистым улицам. Со всех сторон вагон окружали люди — мужчины и женщины, юноши и девушки, в перемещениях которых не было никакого смысла. Большинство носили какие–то западные одеяния, иногда сочетавшиеся с восточными, все казались не особенно чистыми. Но по крайней мере я наблюдая обычную жизнь — жизнь, которую я видел, скажем, на задворках Санкт–Петербурга и в своем родном Киеве до войны. Хотя турки и были побеждены, но они продолжали заниматься своими обычными делами. Им не приходилось осторожно ползать, в ужасе озираясь и поминутно опасаясь лишиться жизни и свободы, а ведь именно так теперь жили люди во многих русских городах. Я оценил контраст, ведь Пера была главным русским кварталом Константинополя. Многие мои соотечественники все еще носили свои мундиры. Другие ходили в костюмах типичных московских и петербургских фасонов. Аристократы и крестьяне были здесь равны — в России такому не бывать. Все отчаянно нуждались в паспортах или работе, все искали кого–то, кто мог бы купить остатки их сокровищ.