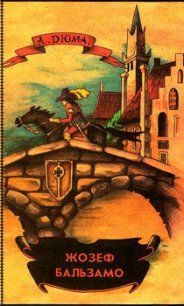Волонтер девяносто второго года - Дюма Александр (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
Если вы пожелаете сегодня, то есть почти в середине девятнадцатого века, отыскать эти своды, что слышали громовой голос Дантона, но все-таки устояли, то искать их надо напротив Медицинской школы, в глубине темного двора; их преобразовали в музей хирургии и анатомический театр.
Тринадцатого июля 1790 года это был Везувий, мечущий из кратера пламя, угрожающий поглотить Неаполь и изменить весь мир. В наши дни это всего лишь сольфатара, то есть горстка потухшей серы, облачко рассеивающегося дыма.
XIX. КЛУБ КОРДЕЛЬЕРОВ
Мы, я и г-н Друэ — он был моим Вергилием, — спустились в логово кордельеров.
Зал был низким, неуютным, его плохо освещали коптящие лампы. Пелена, сотканная из чада ламп и дыхания людей, висела над головами и, казалось, сдавливала грудь.
Здесь не было членских билетов: войти мог любой. Общество было в высшей степени простонародное; шум стоял такой, что легко было оглохнуть; люди не продвигались вперед, боясь, как бы их не придавили. Однако через несколько минут нам с г-ном Друэ, поскольку мы были молоды и сильны, удалось протиснуться поглубже в зал.
Потребовалось время, чтобы наши глаза привыкли к этому задымленному воздуху; наконец, словно сквозь сумеречный туман, мы начали различать предметы.
— Кстати, посмотри-ка, — сказал г-н Друэ, когда стало возможно что-то разглядеть.
— Куда, господин Жан Батист?
— Вот туда, между двумя канделябрами, на человека в кресле председателя.
— Вижу, господин Друэ! — вздрогнув, ответил я.
— Ну, что скажешь? — спросил он.
— Скажу, что вы показываете мне не человека.
— Кого же?
— Чудовище.
— Хорошо! Посмотри внимательнее и в конце концов привыкнешь к этому лицу, каким бы «хаотичным» оно ни казалось.
Эпитет «хаотичный» действительно великолепно характеризовал это лицо, чудовищно обезображенное оспой и казавшееся лицом еще не доделанного природой человеческого существа, которое могло бы возникнуть в тот период образования земли, когда Бог пытался сотворить мастодонтов и Калибанов; это изуродованное, испещренное рытвинами оспы лицо как бы представляло собой некую первую, тягостную и мучительную пробу природы: оно было несовершенно, но грозно, незаконченно, но энергично. Оно могло бы показаться корой застывшей лавы, еще покрытой шлаком последнего извержения вулкана. Эти маленькие глаза-щелки, метавшие, однако, факелы пламени, были двумя кратерами, откуда извергались раскаленные потоки грязи и огня; они жили в центре угрожающей и грубой глыбы, нечистой, но громадной массы плоти и крови, исполненной жизненной силы. Это было некое подобие демона хаоса, который при сотворении нового мира возникает среди руин мира старого. Но это было нечто еще более грозное и величественное, это был дух Революции, непостижимый монстр с помутненным разумом, невежественный и роковой; он напоминал какой-то неотвязный кошмар, страшный сон, от которого нельзя пробудиться.
Короче, это был Дантон.
Он схватил колокольчик и затряс им с какой-то неистовой яростью; казалось, он вкладывал ее во все, что делал. Мгновенно установилась тишина.
Рот циклопа искривился, и посреди безмолвия голос, способный перекричать любой шум, произнес:
— Слово предоставляется Марату.
Скажем несколько слов о том, кем был тогда Марат.
Марат родился в 1744 году в Невшателе. Следовательно, ему исполнилось сорок шесть лет. Его мать, женщина очень нервная и весьма романтичная, притязающая на то, чтобы сделать своего сына вторым Руссо. Она преуспела в одном: Марат, не обладая гением женевского философа, не уступал ему в гордыне. Отец Марата, трудолюбивый и просвещенный протестантский пастор, занялся научным образованием сына; он беспорядочно загромоздил его мозг всем, что знал сам, превратив в некое подобие словаря, но словаря, лишенного методы, классификации и полного ошибок.
Дед Марата был сардинец и звался Мара (к этому имени буква «т» прибавлена или отцом Марата, или самим сыном). Марат преподавал французский язык в Англии и сносно владел английским; кроме того, он знал физику и химию, но очень поверхностно; 1789 год застал его ветеринаром в конюшнях графа д'Артуа.
Четырнадцатого июля, в день взятия Бастилии, Марат оказался на Новом мосту и едва не попал под копыта взвода гусар. Именем народа Марат приказал гусарам сложить оружие. По крайней мере, так утверждает он. Но не надо ему верить: Марат не был храбрецом. Даже в такой час он весь день прятался, чтобы бежать, говоря его словами, от подручных Лафайета и Байи, которые, по всей вероятности, о нем даже не вспоминали. Из дома в тот день он вышел вечером, словно ночной зверь: его желтые, как у совы, прозрачные, довольно спокойные, а главное, довольно мутные, бегающие глаза, казалось, лучше видели в темноте, чем при дневном свете. Он всегда жил, перебираясь из подвала в подвал, смотря на Божий свет только из-под земли, через отдушину своей мастерской; он без конца писал, сочинял, заимствуя для своих слов у стен собственного подземелья их пепельно-серый цвет и сырость. Его лицо представляло собой лишь наружную стену больного тела и одержимого зловещими видениями ума. Марата вечно грызла зависть, распаляемая гордыней. Сегодня он преследовал всех людей: требовал шестисот голов, десяти тысяч голов: двадцати тысяч голов; однажды даже потребует двухсот семидесяти тысяч; завтра перейдет на личности и будет преследовать Лавуазье. Время от времени он возбуждается и настойчиво призывает проливать кровь; кажется, что это его привычный напиток, которого ему не хватает, что его терзает жажда и он любой ценой хочет ее утолить. Тогда его врач, покачивая головой, говорит: «Марат кипит!» Врач приходит к больному, делает ему кровопускание, и пульс у Марата успокаивается. Собратья-журналисты смеха ради подзадоривают его, называя «божественным Маратом». Народ воспринимает эту похвалу буквально и делает из Марата бога. Этот бог может творить все что угодно, и ему будут рукоплескать; Марат не просто ведет за собой народ — он его развлекает.
Поэтому его встретил одобрительный шепот (накануне этого тщетно добивался Робеспьер), и Дантон, словно одобряя его, объявил:
— Слово Марату.
Едва он произнес эти слова, как мы увидели, что по лестнице на трибуну с трудом карабкается существо, словно составленное из трех элементов животного царства и похожее одновременно на человека, жабу и змею; его широкий кривой рот расплывался в мертвенной улыбке.
Этим созданием — в отрепьях, с повязанным на голове грязным платком, с угрожающими глазами, приплюснутым носом, гладкими волосами, землистым цветом лица — и был Друг народа (в конце концов люди дали Марату имя его газеты).
Как только его голова, отталкивающая своим уродством, озаренная ореолом гордости и откинутая назад (шея с зобом казалась наполненным ядом, словно у гадюки), показалась над оградой трибуны, сотни голосов тут же завопили:
— Говори, Марат, говори!
— Да, — ответил Марат глухим голосом, — да, я скажу все.
Зал замолчал как по волшебству. Дантон подпер рукой свою чудовищную голову и слушал, презрительно улыбаясь. К трибуне подошел молодой человек и встал перед ней, скрестив на груди руки, будто атлет, решивший бросить вызов оратору.
— Смотри, смотри, — шепнул Друэ.
— На кого? Марата? Я его вижу.
— Нет, на молодого человека.
— Кто он?
— Камилл Демулен, герой тринадцатого июля, завсегдатай кафе Фуа, отец зеленой кокарды, редактор газеты «Революции Франции и Брабанта».
— Тихо, тихо! — зашикали несколько раздраженных голосов.
Марат, услышавший шепот, метнул в нашу сторону подозрительный взгляд. Мы замолчали.
— Вершится великая измена! — взвизгнул Марат. — Это и неудивительно, потому что не хотят слушать моих советов, но я все-таки утверждаю: пока мы не будем время от времени таскать вокруг Национального собрания несколько голов на пиках, толку не будет. Поступайте так, как я вам говорю, и скоро конституция будет написана и улучшена.