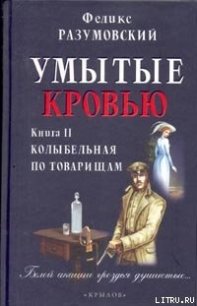Умытые кровью. Книга I. Поганое семя - Разумовский Феликс (книги без сокращений .TXT) 📗
III
– Все, приехали. – Геся Багрицкая-Мазель остановила пролетку на Невском напротив Пассажа. По-царски расплатилась с лихачом и, нарядная, за версту благоухающая «Лориганом»[1], не спеша, двинулась по Садовой. Ей хотелось пройтись пешком.
Стоял погожий осенний день. На карнизах ворковали сытые, разъевшиеся голуби, сонные ваньки, сгорбившись на козлах, терпеливо поджидали седоков, в толпе мелькали картузы, дамские шляпки, котелки, грязно-серые солдатские папахи с расстегнутыми отворотами. Марьяжили клиентов дешевые «клюшки», ужами вились какие-то личности с цепким взглядом бегающих глаз и быстрыми движениями ловких рук. В прежние времена шастали бы они недолго – до первого городового.
– Асмоловские папиросы крученые, асмоловские папиросы!
– А вот «Голубка», пять копеек десяток!
– Кошелечки-кошельки отличные, к золоту привычные!
– Пожалуйста, первосортный табачок фабрики господ Поповых!
Вокруг Багрицкой волновалась толпа проворных, в белых фартуках, с лотками на плечах уличных разносчиков. Встречные дамы завистливо мерили глазами ее манто от мадам де Лантье, мужчины не скрывали восторженно-плотоядных взглядов, только Гесю они совершено не трогали. Все, больше с этими двуногими скотами никаких дел. Хватит.
Единственный мужчина, которого она вспоминала с нежностью, был отец. Он гладил Гесю по голове большой теплой рукой, покупал ей леденцы «Ландрин» и смешно рассказывал веселые мансы. Но однажды в дом вломились пьяные, дико орущие мужики и убили его, а ее, задыхающуюся от страха и боли, грубо изнасиловали. На всю жизнь в память ей врезались их торжествующих смех, чесночный смрад вонявших пастей и тяжесть взопревших, давно не мытых тел.
Гэвэл гаволим! Канторы протяжно пропели «Эль молей рахим» над могилой отца, и, чтобы как-то жить, мать, спасибо дяде Гершу, устроилась сиделицей в винную лавку. Геся ей помогала во всем – расставляла по полкам сотни шкаликов, «мерзавчиков», «полумерзавчиков», которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, вытирала пыль, мыла полы и каждодневно убеждалась в скотской сущности мужского пола. Прилавок не случайно был отгорожен частой железной решеткой, – за ней, словно звери в клетке, толпились расхристанные, готовые на все ради двухсотки водки пьяные завсегдатаи. Так бы и придушила их всех.
А потом зацвели каштаны, и Гесю выдали замуж за хозяина антикварной лавки Хайма Соломона. Подобно царю Давиду он возжелал, чтобы на старости лет его согревала по ночам молодая прекрасная дева. Правда, познав полудюжину пьяных мужиков, Геся оказалась поискушенней непорочной Ависаги Сунамитянки[1], да и сам Хайм Соломон, не в пример владыке Израиля, изводил ее своей мерзкой похотью до крайности, пока не помер. А во искупление своих грехов завещал все деньги и имущество синагоге.
Пришлось Гесе вскоре выходить замуж за Соломона Мазеля – грубияна, картежника и громилу. Он был высок, широкоплеч и брюхат, носил в тон рыжим пиджакам бархатные малиновые жилеты, а когда бывали перебои с деньгами, бойко приторговывал Гесиными прелестями. Наконец случилось то, что должно было случиться. Шлема Мазель основательно влип и был отправлен по этапу в якутский каторжный острог. Гесе же не оставалось ничего другого, как трудиться двухрублевой шмарой, пока братец не выписал ее в Петербург и не подложил под святого старца. И после всего этого кто может сказать, что мужчины не двуногие скоты!
Геся прошла вдоль чугунной решетки Ассигнационного банка, не спеша миновала фасад Пажеского корпуса, путь ее лежал к Покровской церкви. Нет, она не собиралась молиться или исповедоваться на скамейке, в скверике у храма, у нее было назначено рандеву с княгиней Озеровой, особой чувственной, развратной и весьма падкой на сомнительные удовольствия. Муж ее, известный петербургский бугр, открыто жил со своим адъютантом и не раз предлагал супруге завести любовника на свой вкус. Однако вкус княгини оказался несколько отличен от общепринятого.
Познакомилась Геся с ней прошлым летом на майоренгофском пляже под Ригой. Погода стояла жаркая, и отдыхающие активно принимали морские ванны. По всему берегу из воды торчали плетеные корзины-купальни, оборудованные специальными колесиками. Служащие пляжа вывозили в них одетых в полосатые костюмы-джерси дам на глубину. Волей случая Багрицкая и княгиня Озерова заняли соседние купальни, познакомились, разговорились, а потом стали на пару весело проводить время. Ах, славное выдалось лето! В Петербурге они встречались редко, но, как говорится, метко – княгинюшка обычно привозила для компании какую-нибудь хорошенькую горничную, ехали в «Бристоль» или «Варшавскую», ужинали с шампанским, нюхали кокаин, засыпали втроем в одной постельке.
«Что-то рановато я сегодня. – Геся глянула на золотые часы-браслетку и, чтобы потянуть время, остановилась у витрины с дамскими платьями. – К тому же Озерова не очень-то пунктуальна».
– Выгуливаешься? А я тебя сразу узнал, второго такого зада в Петербурге не сыщешь. – Кто-то взял ее за локоток и раскатился странно знакомым дребезжащим смешком. – Ну, здорово, коза, с кем живешь?
– Пошел вон! – Краснея от ярости, Багрицкая рывком освободила руку, повернулась к наглецу, и лицо ее удивленно вытянулось. – Ты? Шлема?
Перед ней стоял ее законный муж Соломон Мазель, он широко улыбался, пуская солнечных зайчиков многочисленными фиксами. Правда, это был уже не тот шмаровоз Шлема, каким она его помнила. Соломон Мазель здорово изменился: он отпустил бородку клинышком, носил пенсне и был одет в хорошее драповое пальто с мерлушковым воротником.
– Запомни, коза, на всю свою оставшуюся жизнь, меня зовут теперь Сергей Петрович, Сергей Петрович Мазаев. – Он щелкнул крышкой портсигара и ловко закурил. – Конспирация.
Массивная серебряная папиросница хрустально вызвонила царский гимн.
– Ну и почем же ты нынче бегаешь, Сергей Петрович? – Гесе стало смешно и занятно – ишь ты, как запел. – Важный стал, на бобра машешь.
Она криво усмехнулась и потрепала его по гладко выбритой щеке. Глаза Соломону Мазелю резануло блеском драгоценных камней – вот так, знай наших.
– С прошлым покончено навсегда. – Далеко выплюнув недокуренную папиросу, он завороженно проводил взглядом бесценную Гесину руку, вздохнул. – Мое призвание революция. По убеждениям я ортодоксальный анархомарксист с левым уклоном, однако вопросы временной стратегии заставляют меня держаться большевиков. Читала Бакунина? Или, может, Кропоткина?
Щеки его загорелись румянцем, в углах толстогубого рта появился белый налет.
– Я, милый, Библию на ночь читаю, чтоб ты мне не приснился. Значит, марксист? – Геся вдруг зло рассмеялась. – А помнишь, как ты меня продул в буру Абрашке Рыжему, как тот устроил мне бенефис, пустил, скотина безрогая, по кругу? Не забыл, ты, с левым уклоном?
– Не поминай прошлого, коза, можно зрения лишиться. Пойми, бытие определяет сознание. – Соломон Мазель состроил скорбную мину: – Проклятый царизм с его язвами и классовыми антагонизмами растлевал мое самосознание, толкал к стихийному антисоциальному протесту. Зато теперь я готов для борьбы. Революция – это порыв, вихрь, стихия, умопомрачительный экстаз бунтующей души. Это лучше спирта с кокаином.
Он снова закурил, торопливо затянулся и ткнулся бородой в Гесино ухо:
– У тебя есть душа, коза? Если есть, приходи завтра на митинг, покажу тебе подъем восставших масс в нарастающей революционной динамике. Буря, скоро грянет буря, буревестник, как его, молнии подобный… Буря мглою небо кроет… Знаешь, кто написал?
От него остро пахло «Шипром», потом и табачным дымом.
– Надо знать, коза. Это Горький сочинил, из бурлаков. Человек пешком всю Россию исходил, а тебе даже лень на митинг прийти, отдаться во власть революционного порыва.
Выплюнув папиросу, Мазель взял Гесю за руку, с нежностью ощупал взглядом бриллианты, потом посмотрел ей в лицо.
– Знаешь, коза, это знак судьбы, после стольких лет разлуки случайная встреча. Это рок, фатум, предначертание свыше. Ну что, придешь? – Его всегда мокрые, вывороченные губы выжидательно растянулись в улыбке, бесстыжие глаза по-прежнему были глазами Шлемы-шмаровоза, а тот как-никак с женщинами обращаться умел.