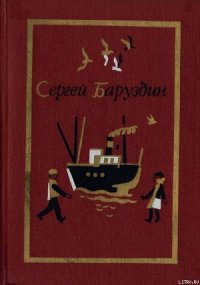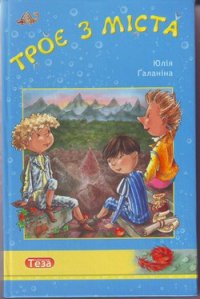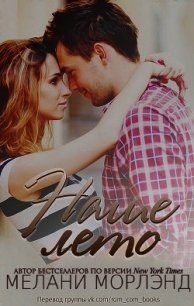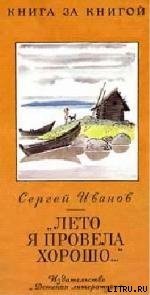Беглецы - Карпущенко Сергей Васильевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
– Ну что ж ты с ним делать-то будешь, дубина? – спросил у палача Хрущов. – Али не дотумкал рыбьей своей башкой, что раздеть нужно было прежде? Чрез одёжу пытать будем?
Калентьев виновато покрутил крохотной своей головкой:
– С непривычки я, господин судья, с непривычки. Попервой-то всяк блин горбат выходит, – и принялся разматывать уже закрепленный на крюке конец веревки, и скоро юноша грохнулся на пол. Палач торопливо сорвал с него одежду, снова привязал к веревке и снова, тыкаясь в доски тощим задом, тянул Герасима наверх. Во время долгой этой возни Лукерья выла особенно громко, как будто предчувствуя собственные муки, так что Хрущов даже велел ей заткнуться, но женщина не замолчала, а продолжала выть в подол. Муж же ее все время находился точно в столбняке, лишенный страха, языка, рассудка.
Когда Герасим повис опять, Хрущов неспешно вышел из-за стола, приблизился к нему и, смотря почти в глаза Измайлову – судья высок был, – ледяно спросил:
– Кого еще подговорить успели? Отвечай! Не то с живого кожу по-татарски сдирать будем да в трубки скатывать!
– Ни-ко-го, – тихо ответил юноша – громче говорить не мог.
Хрущов палачу кивнул:
– Затычку приготовил?
– А как же! Исполнил, ваша милость! – радуясь случаю угодить судье, вытащил Клим из кармана грязных штанов своих деревянную затычку, выстроганную для случая под размер собственного рта.
– Ну, суй, суй! И угли к пяткам сразу, чтоб отплясал он нам веселый менувет!
– Сейчас, сейчас, подложу! – закивал Клим и побежал к жаровне, возле которой хозяйничал Винблан. Кузнечными клещами насобирал углей, вывалил на жестяной поддон, клещами же понес его к ногам бедняги, связанным предусмотрительно. Герасим, не имея сил кричать, только задрожал всем телом, забившимся в мелкой судороге. Вначале глазами, лезшими из орбит, ворочал он страшно, скрипели зубы на кляпе, плотно вдвинутом, пот лился по нему ручьями. Но скоро глаза юноши помутнели, опустились веки и затворили их, а голова бессильно упала на нежную, как у девицы, безволосую грудь.
– Вишь ты, обморочился, – с неудовольствием заметил Хрущов, как видно, в раж вошедший. – Окати водой – очухается.
Исполнительный Клим бросился к бадье, но Беньёвский, махнув платком, сказал угрюмо:
– Пытку Измайлова на том закончим. Не скажет он, довольно.
– Ваша милость! – кинулся к предводителю Хрущов. – Отчего ж не скажет? Заговорит он у меня, заговорит! Ополоснем маленько – и опять за дело! У меня еще такое средство в запасе есть, до коего турки стамбульские не доперли еще!
– Да отчего ж не продолжить? – поддержал Хрущова Панов Василий. – Не узнаем от ученика штурманского, так от камчадала и подавно.
– Отвязать Измайлова! – резко прокричал Беньёвский, поднимаясь. – Бабу, бабу наперед поднять нужно было! С нее начинать следовало! Э-эх! Поручить ничего нельзя!
Опустили и отвязали Герасима, который был без чувств. Положили на рогожу у самого борта, за которым, слышно было, вода плескалась. Клим подступил к Лукерье, поднял, воющую, с лавки, у председателя спросил:
– Голить-то надо?
– А как же! – рассмеялся тот. – Пущай свой срам суду покажет, коли в мятежницы записалась!
Калентьев стал раздевать Лукерью, неумело и неловко, оттого что баб, по причине дурости своей и уродства, имел не много. Лукерья завизжала, вцепилась ему в бороду. Алексей Парапчин не выдержал такого надругательства, вскочил с лавки, бестолково стал головой крутить направо и налево, заголосил:
– Бабу не тро-о-жь! Все скажу, не тро-о-ожь!
Хрущов, жалея о том, что не увидит голой Лукерьи, нахмурился, как видно, осердясь на камчадала за помеху:
– Ах, скажешь? А что ж ты, рыбья морда, раньше-то молчал? Али не жаль Гераську было, когда пятки ему углями жгли? А бабу свою пожалел-таки господам голяком показать. Ну и сволочь же ты, Парапчин! А еще православным себя называешь! – и огорченный уселся за стол. – Ну-ну, говори, кого вы там из команды подначить успели? Всех не назовешь али неверно покажешь, осрамим твою Лукерью самым паскудным образом.
– Все расскажу! Все! – трясся камчадал. – Пиши давай, пиши!
– Ну, говори!
– Двое их, двое всего! Первый – Зябликов Филиппка, штурманский ученик, такой же, как Гераська! А другой – казак бывший, Петрушка Сафронов. Токмо их двоих и уговорили!
– Давай, говори! Говори! – орал Хрущов. – Далее сообщников называй! Не верю, чтоб толико двоих уговорили злыдничать!
– Тьфу ты, черт! – вдруг неожиданно твердо выругался Парапчин. – Да говорят тебе – двое токмо! Филиппка да Петрушка!
– А ты что ж, харя тюленья, судье грубишь? – вскинулся Хрущов. – А ну, палач, на дыбу сию чумичку вознесть в два счета да каленым железом, железом, железом!
Ипполит Степанов снова повернулся к Беньёвскому, взмолился:
– Господин адмирал, да что ж ты безмолвствуешь? Ведь мы через истязания сии не верность мужичью приобретем, а токмо ненависть ихнюю! Ужель не понимаешь, что делу всякому свой предел положен должен быть?
Беньёвский резко встал:
– Господин Степанов здраво рассуждает. Пытку прекратить, допрос тоже. Раненых тотчас перевязать и как можно скорее выходить. Зябликова и Сафронова под стражу немедля взять. Вердикт наш вынесем сегодня вечером, завтра ж поутру подлым товарищам нашим его зачтем. Сейчас же на свежий аер выйти поспешим – мясом паленым зело нещадно пахнет!
5. ДЕНЬ ДРУГОЙ. НА ПАЛУБЕ
Когда открылся заговор, мужики, по большей части ничего о нем не знавшие, новостью сильно обескуражены были. Топтались на палубе, как овцы, без цели с места на место переходили, друг с другом не разговаривали, а только вздыхали. Вначале вознегодовали – странным и диким показалась им затея с возвращением на Камчатку. Не могли не злиться, потому что ничего иного представить не могли по возвращении своем, кроме проклятой, опостылевшей всем жизни с полуголодным животом, с опасностью быть обманутым всяким, кто половчей, посильней да похитрей. А ведь пугали к тому ж и казни злые за совершенный бунт, за разграбление казны и побег на казенном судне. Поэтому их разум поступок трех товарищей осознать никак не мог, но вместе с тем из самой сердцевины их грубых, нескладных тел с короткими, косолапыми ногами и длинными клешневатыми руками поднималось едва ощутимое тепло, заменявшее им понимание непостижимого поступка заговорщиков. И мужики совсем теряли разумение, не знали, каким судом судить им тех троих, что думали везти их назад, домой. Вот поэтому и топтались они в нерешительности на палубе, печалясь неразумию своему и не доверяясь сейчас никому: ни себе, ни друзьям, ни адмиралу. Но одно чувство было понятно им – чувство ненависти к тому, кто донес на заговорщиков.
А Беньёвский все видел, чувства мужиков хорошо понимал и, зная, что всякая неопределенность неприятна человеку – будь он дворянин или крестьянин, – спешил привести их мысли в положение определенное, понятное и одинаковое для всех, способное сделать из них послушных, исполнительных матросов.
Едва настало утро следующего дня, всех выгнали на палубу. Беньёвский вышел из кают-компании в сопровождении господ, разряженных, блистающих позументом золотым на кафтанах и шляпах, позолотой дорогих шпаг, добытых в большерецком цейхгаузе. Скоро из трюма подняли наверх пятерых мятежников, босых, со связанными руками. Измайлов едва держался на ногах из-за раны в голове и сожженных стоп. Шагать старался ступая по-медвежьи, косолапо. Лукерья скулила, Алексей Парапчин остолбенело пялил глаза, не понимая будто, что с ним происходит. Филиппка Зябликов ровесником был Герасима. Все видели, стыдился своего поступка, беспрестанно носом дергал, глаза держал опущенными. Второй поддавшийся соблазну заговорщиков, Сафронов Петр, выходя на палубу, надсадно кашлял, прижимая связанные в запястьях руки к узкой, дохлой груди. Седоватый уже, вертел по сторонам головой, будто удивлялся, как вляпался он в историю такую.
– Дети мои! – со скорбью в голосе обратился адмирал к притихшим мужикам и бабам. – Семнадцать ден назад клялись мы при выходе в море на прапоре Павла Петровича, а прежде на кресте животворящем и на Евангелии святом. Так какая кара соразмерной может быть клятвопреступлению? – и добавил с надрывом: – Ответствуйте, какая кара?