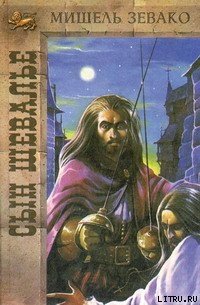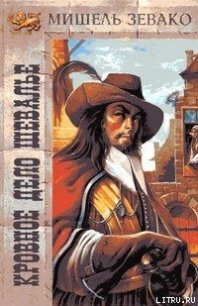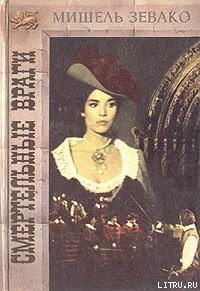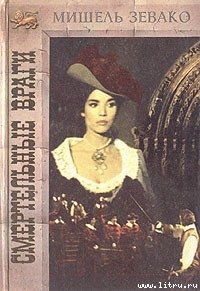Коррида - Зевако Мишель (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
Глава 6
ПЛАН ФАУСТЫ
Мы уже говорили, что Тореро оказался перед неприятной необходимостью поставить свою палатку рядом с палаткой Красной Бороды.
Этим тягостным соседством дон Сезар был обязан вмешательству Фаусты, хотя сама она об этом и не подозревала. Вот как это случилось. Король и его инквизитор решили арестовать дона Сезара и Пардальяна. Вот уже двадцать лет король преследовал своей ненавистью внука. Эта дикая ненависть, нисколько не притушенная долгими годами, оказалась, однако, более слабой, нежели новая, испытываемая к Пардальяну, человеку, виновному в том, что он болезненно задел непомерную королевскую гордыню. Мы даже можем сказать, что шевалье превратился в главную заботу короля и Эспинозы и что в крайнем случае они были бы согласны позабыть сына дона Карлоса и перенести все свое внимание на шевалье.
Если король слушался только своей ненависти, то великий инквизитор, напротив, действовал бесстрастно и становился от этого только более грозным противником. Он-то не испытывал ни ненависти, ни гнева. Однако он боялся Пардальяна. А у человека, подобного Эспинозе – холодного и методичного, но решительного, страх гораздо более опасен, чем ненависть. Человек столь сильной закалки, как великий инквизитор, может уступить внезапному порыву, хорошему или дурному. Но он остается несгибаемым перед необходимостью, продиктованной логическим рассуждением. С того мгновения, когда великий инквизитор начинал бояться какого-то человека, этот человек – кем бы он ни был – оказывался обречен.
Из вмешательства Пардальяна в дела внука короля Эспиноза заключил, что тот знает гораздо больше, нежели хочет показать, и что, движимый личным честолюбием, шевалье сделался защитником и советником принца, который, не будь этой неожиданной поддержки, оставался бы человеком без роду и племени и вовсе не опасным.
Ошибка великого инквизитора заключалась в том, что он упорно видел в Пардальяне честолюбца. Он совершенно не разглядел рыцарскую, сверх всякой меры бескорыстную натуру шевалье, столь непохожего на людей той поры. Иначе и быть не могло: ведь бескорыстие – это, наверное, единственная добродетель, наличие которой человечество всегда отрицало и, очевидно, еще долго будет отрицать.
Что касается самого Пардальяна, то все объяснялось очень просто: потрясенный той ожесточенностью, с какой могущественные вельможи преследуют несчастное, беззащитное существо, он по доброте душевной решил по мере возможности помочь жертве, которой грозила опасность, – так стараются вырвать из рук злодея, наслаждающегося своей безнаказанностью, слабое создание, причем вырвать как раз в то мгновение, когда злодей пытается убить его. Поступок принца, защищающего свою жизнь, был по-человечески понятен, поступок Пардальяна, пришедшего ему на помощь, был великодушен и естествен – для шевалье. Кроме того, эта вынужденная самооборона вовсе не обязательно предполагала нападение со стороны Тореро или Пардальяна.
Однако великий инквизитор был просто не в силах постичь логику действий загадочного француза.
Если бы он мог глубоко проникнуть в суть характера своего противника, он, возможно, понял бы, что Пардальян никогда бы не согласился сделать то, на что, как подозревал Эспиноза, он был якобы способен. Не существовало ни малейших сомнений: если бы Тореро изъявил намерение притязать на свои несуществующие права (учитывая необычные обстоятельства его появления на свет), если бы он предпринял именно те действия, на какие его пытались подвигнуть, и выступил в качестве претендента на престол, то Пардальян презрительно повернулся бы к нему спиной. Обрекая человека на гибель по одному только подозрению в поступке, о котором тот и не помышлял, Эспиноза, следовательно, сам совершал неблаговидное действие. Воздадим, однако же, ему должное, напомнив, что он был искренен в этом своем убеждении. Воистину – мы приписываем другим лишь те чувства, которые способны испытывать сами.
Наконец, – и здесь мы переходим от общего к частному, – великий инквизитор был бы весьма не прочь избавиться от того, с кем он в свое время пустился в откровения; последние, если бы Пардальяну вздумалось болтать о них, могли бы привести его, Эспинозу, прямо на костер, будь он хоть трижды великий инквизитор.
И все-таки это обстоятельство отходило на второй план. Да, Эспиноза не смог понять необычайное великодушие Пардальяна, но все же не следует забывать, что его высокопреосвященство был дворянином и в этом качестве доверял данному ему слову и прямодушию своего противника. Что ж, хотя бы кое в чем он смог оценить Пардальяна по справедливости.
Итак, Эспиноза и король, его хозяин, сошлись в двух пунктах: должно было непременно схватить и умертвить Пардальяна и дона Сезара. Единственное расхождение во взглядах, существовавшее между ними, касалось того, как именно надо расправиться с наглым французом. Королю хотелось бы, чтобы человека, обошедшегося с ним непочтительно, просто-напросто арестовали. Для этого всего-то и нужно было: офицер и еще несколько человек. После чего схваченного судят, приговаривают к смерти, казнят.
Эспиноза смотрел на вещи по-другому. Во-первых, арест посланника французского короля не казался ему таким уж простым и легким делом. Во-вторых, по-видимому, под влиянием высказываний Фаусты (хотя он и не отдавал себе в этом отчета), увидевшей в Пардальяне, в приступе мистического ужаса, прямо-таки сверхъестественное существо, которое (в отличие от простых смертных) может и не даться в руки властям, великий инквизитор испытывал некоторую тревогу касательно того, что может произойти после этого ареста. Наконец, Эспиноза был священнослужителем и министром, и потому в его глазах осмелиться оскорбить королевское величество означало совершить преступление, искупить которое были бы бессильны самые изощренные, нечеловеческие пытки.
С другой стороны, своеобразные идеи великого инквизитора о смерти заставляли его рассматривать конец жизни как освобождение, а не как кару. Следовательно, на долю преступника оставалась пытка. Но что значили несколько минут пыток по сравнению с чудовищностью преступления? В сущности, ничтожную малость. А когда речь шла о человеке необычайной физической силы, сочетавшейся с редкой силой душевной, то можно было сказать, что это и вовсе ничего. Итак, следовало найти нечто небывалое, нечто ужасное. Требовалась агония, которая длилась бы долгие дни и ночи – в страданиях, в невыразимых муках.