Авантюристы - Мордовцев Даниил Лукич (читать хорошую книгу TXT) 📗
Такой таинственный бродяга гостил и у Зорича в Шклове под именем князя Изан-бея, племянника падишаха.
Зорич познакомился с ним еще в Турции, когда находился там в плену. Вся жизнь этого Изан-бея представлялась какою-то таинственною интригою. Говорили, что он — второй сын сестры царствовавшего тогда султана. Он будто бы воспитан был тайно, под чужим именем, ибо по турецким якобы законам сестра султана может иметь в живых только одного сына, а второго, третьего и всех последующих должна душить, как щенят. Но мать Изан-бея будто бы не задушила его, а скрыла. Когда же стали догадываться об его происхождении, то мать, боясь, чтобы ее тайна не дошла до султана, тихонько отправила его в чужие края, где он и прожил несколько лет. Но скоро деньги, которые он вывез из Турции, были прожиты, а новых не присылали; тогда он вспомнил о Зориче и явился к нему в Шклов.
Современник Зорича Лев Николаевич Энгельгардт, сын упомянутого выше губернатора Энгельгардта, в своих «Записках» оставил нам интересные заметки о самом Зориче, о его характере и жизни в Шклове.
Когда Зорич, как выражался Энгельгардт, "выбыл из случая", то ему пожалован был Шклов с тринадцатью тысячами душ. "Первое употребление монаршей милости было то, что он завел в Шклове училище, выписал хороших учителей; в оном и я учился один год. Впоследствии сие училище названо кадетским корпусом, и в нем было до трехсот кадет". Корпусу этому императрица дала привилегию: кончившие в нем кадеты поступали в армию офицерами.
Когда в 1780 году Екатерина предприняла путешествие в новоприобретенный от Польши Белорусский край, она заезжала к Зоричу в Шклов, где и ночевала. Бывший фаворит на славу угощал свою коронованную гостью. Но еще торжественнее был прием государыни, когда она на возвратном пути посетила своего бывшего фаворита вместе с австрийским императором Иосифом II. "Зорич, — говорит Энгельгардт, — к приезду ее построил преогромный дом, богато убранный, выписал из Саксонии фарфоровый сервиз, стоивший более шестидесяти тысяч рублей. Благородные представили пантомиму на театре, бывшем в том же доме, с чрезвычайными декорациями, которых было до семидесяти. Сочинил оную, а также и музыку, костюмы и декорации барон Ванжура, отставной ротмистр австрийской службы. Император его тотчас узнал и объявил сожаление, что он оставил его службу. После ужина был сожжен фейерверк, деланный несколько месяцев артиллерии генерал-майором Петром Ивановичем Мелиссино: павильон из 50 000 ракет был достоин своего мастера и стоил чрезвычайно дорого".
"Ни одного не было барина из России, — говорит Энгельгардт в другом месте, — который бы так жил, как Зорич. Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и наций; многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича, когда он служил майором в гусарском полку, и жили на его совершенном иждивении; затем отставные штаб- и обер-офицеры, не имеющий приюта, игроки, авантюристы всякого рода, иностранцы: французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки — словом, всякий сброд и побродяги. Всех он ласково принимал, стол был для всех открыт. Единственно для веселья съезжалось из Петербурга, Москвы и разных губерний лучшее дворянство к 1 сентября, дню его именин, на ярмарки два раза в год, и тогда праздновали недели по две и более. В один раз было три рода благородных спектаклей; между прочим, французские оперы играли княгиня К. А. Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры; по-русски трагедии и комедии — князь П. В. Мещерский с женою и прочие; балет танцевал Д. И. Хорват с кадетами и другими; польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки; иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катания в шлюпках на воде. Словом, нет забав, которыми бы к себе хозяин не приманивал гостей, и много от него наживались игрою…"
Вот как бывшему фавориту жилось в Шклове на счет дреговичей, северян в кривичей.
Понятно, что в Шклов валила всякая темная сила — самозванцы, беглецы, рыцари темной наживы, все промотавшееся, тунеядствующее, паразитное.
Такая репутация Шклова слишком хорошо была известна при дворе, и в кабинете императрицы, когда докладывал генерал-прокурор Вяземский по уголовным и секретным делам, часто можно было слышать такой разговор между Вяземским и Екатериной:
— Ну, что Александр Алексеевич, нашел сорванца, что казначейство обокрал?
— Нету, матушка государыня, доселе не сыскали.
— Плохо ищете.
— Помилуй, матушка, все мышиные, кажись, норки перерыли.
— И в Москве искали?
— Искали, государыня, как в воду канул; уж думаю, не за границу ли бежал.
— Где за границу! А ты вели Шешковскому поискать его в Шклове.
— И то правда, матушка, велю.
И сорванца действительно находили в Шклове…
IV. НАКРЫЛИ
Темная, душная летняя ночь. Шклов давно спит. Спят даже темные деревья в тенистом парке шкловского зоричевского замка, раскинувшемся по крутому берегу Днепрa. He слышно ни лая собак, ни пения петухов. Слышно только тихое журчанье фонтана, что выбрасывает воду из открытой пасти тритона в мраморный водоем, из которого струи, переливаясь через края, с тихим шепотом скатываются в канавки парка, да где-то за парком, над обрывом, спускающимся к реке, выкрикивает иногда ночная птица. И Шклов, и замок с его флигелями и башнями погружены в сон. Нигде не видно огонька, только на террасе замка, выходящей в парк и обвитой гирляндами дикого винограда, мерцает свет, бросая яркие блики на темную зелень винограда, на белую голову мраморного тритона и на опустившиеся тяжелые ветви липы, осеняющей фонтан; но свет этот еще более усиливает мрак, господствующий вокруг террасы. На террасе слышны голоса.
— А помнишь, князь, — говорит мягкий, приятный баритон, — такую же вот ночь в Скутари?
— Какую ночь? — спрашивает гортанный голос. — Я много ночей помню, и в Скутари, и в Стамбуле… Аллах не дал мне забвенья…
— Ну полно, ты опять тосковать… Подожди, еще поживешь в своей Туретчине… Нет, я говорю, помнишь, когда вот в такую же темную ночь мы с тобой из Стамбула тихонько перебрались в твоем каике в Скутари и там под балконом караулили гречаночку?
— А! Зою, помню… Давно это было… Не воротится…
— Да, хорошо тогда было, хоть я и в плену у вас обретался.
— А чем теперь худо? — спросил третий голос.
— Все не то…
— Да, правда, это Шклов, а не Венеция, когда, бывало, в гондоле под "Мостом Вздохов" вздыхаешь по итальяночке…
— Ну что в ней хорошего, в этой Венеции! Вода да вода…
Голоса смолкли. Опять послышался только шепот фонтана да монотонные, тоскливые выкрики ночной птицы.
— А что-то наш граф рано завалился спать, — опять послышался мягкий баритон.
— Голова, говорит, разболелась.
— То-то! Некому и банчишко метать.
— Как некому? А Неранчич на что? Он и в Париже считался лучшим банкометом. Эй, Неранчич, ты спишь?
— Нет.
— Али вспоминаешь свою девойку Мару црнокосу?
Собеседующие рассмеялись. Но если бы они пристально вгляделись в одну густую гирлянду винограда, опутавшего перила террасы, то увидели бы, как из-за темной зелени смотрят на них сквозь золотую оправу очков два черных глаза.
Глазам этим представляется такая картина. Посреди террасы большой круглый стол покрыт дорогим персидским ковром с шелковой бахромой и кистями. На столе в беспорядке разметаны карты, кучки золотых монет и пачки ассигнаций. Тут же на серебряном подносе несколько бутылок и недопитые стаканы с вином. Вокруг стола сидят четверо мужчин. Старший из них, плотный, широкоплечий, с черными курчавыми волосами, закинутыми на широкий затылок и оканчивающимися небольшою косою, в темном с широкими рукавами и золотыми пуговицами камзоле, обшитом кружевами, с манжетами, был очень красив собою, хотя и в черных блестящих глазах, и в толстых губах проглядывала чувственность здорового южного организма. Широкие ноздри его, раздувшиеся, словно у норовистой лошади, изобличали, что могучие легкие его работали исправно, как кузнечные мехи. Добрая улыбка толстых губ смягчала некоторую животность, вернее, плотоядность этого красивого лица, известного тогда всей России.
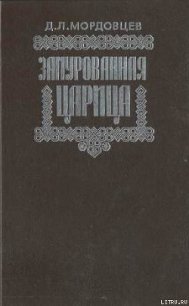

![Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] - Мордовцев Даниил Лукич (читаемые книги читать .txt) 📗](/uploads/posts/books/18833/18833.jpg)

