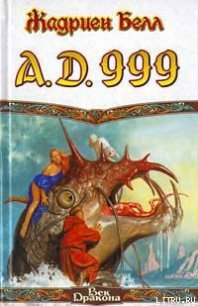Крестоносец - Айснер Майкл Александр (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Видимо, я снова должен кое-что объяснить.
Прежде чем стать послушником, я был прислугой в монастыре. Дело в том, что среди нас жили несколько местных, наиболее усердные из которых получали звание братьев-мирян. Это часть мировоззрения цистерцианцев, мировоззрения, основанного на смирении и покорности: цистерцианцы считают своими братьями безграмотных, невежественных крестьян. Братьям-мирянам запрещено принимать участие в восьми службах, однако аббат Педро позволял им ходить к обедне вместе с монахами. Те, кто не подходил для духовных стремлений, включая женщин, становились слугами, выполняющими всю черную работу в монастыре.
Моя мать тоже была прислугой. Когда она меня родила, ей было тринадцать, и она не была замужем. Естественно, она скрывала свою беременность под шерстяной накидкой, а едва я родился, бросила меня на конюшне и сбежала. Больше в монастыре о ней никто ничего не слышал.
Считалось, что моим отцом был Лукас Сьерра де Манреса, молодой монах, неожиданно покинувший монастырь за несколько недель до моего появления на свет. Исходя из этого предположения, меня окрестили Лукасом де Санта-Крус. Но я всегда подозревал, что брат Сьерра был всего лишь козлом отпущения, что моим настоящим отцом был человек гораздо более высокого происхождения — например, заглянувший в монастырь важный сановник или даже епископ. Как иначе объяснить мои выдающиеся способности и покровительство аббата Педро?
Мне казалось даже, что аббат Педро знает имя моего истинного отца. Однажды он сказал, что у меня такие же черные глаза.
— У Лукаса Сьерры были черные глаза? — спросил я.
— У какого Лукаса? — переспросил он.
В связи с такими обстоятельствами моего рождения я вынужден был жить среди прислуги, пока мне не исполнилось девять лет. Думаю, следует отметить, что я никогда не чувствовал себя их ровней, да и они тоже, по-моему, не считали меня своим. Даже старшие слуги относились ко мне с почтением, причитающимся более высокородному человеку. Например, все слуги спали вповалку на каменном полу кухни, в то время как мне оставляли отдельное место под кухонным столом.
Иногда ночами на кухне бывало очень холодно. Я до сих пор помню, как просыпался в кромешной тьме, в самый разгар зимы, без одеяла и ждал восхода солнца, чтобы хоть немного согреться. Я дышал на окоченевшие пальцы и мечтал о хлебных крошках — остатках монашеской трапезы, — которые хоть слегка заглушат нестерпимый голод.
Но однажды случилось чудо. На мой девятый день рождения аббат Педро сделал меня вновь обращенным. Я стал полноправным служителем монастыря — первым и единственным из местных жителей.
Во время одного из монастырских собраний аббат Педро представил меня другим монахам. Я стоял на коленях рядом с теми самыми мальчиками, которым еще накануне подавал ужин, и коричневая шерсть моего нового одеяния казалась мне нежной, как шелк. Ряса была почти новой — прежде она принадлежала монаху, почившему от болезни месяц назад. Но монах прожил среди нас совсем недолго, поэтому одежда его осталась в прекрасном состоянии. Конечно, усопший был значительно старше меня, поэтому ряса была мне велика. Я очень осторожно подвернул рукава, чтобы они не собрались в некрасивые складки, какие я часто видел на одежде других монахов.
После ежедневного прочтения главы из устава святого Бенедикта аббат представил меня моим товарищам.
— Поприветствуем Лукаса, — сказал он, — как поприветствовал бы отец вернувшегося в отчий дом блудного сына.
Мое посвящение в монахи аббат объявил искуплением грехов прошлого и символом духа прощения, которым был славен наш монастырь. Я был благодарен судьбе, позволившей мне занять надлежащее место в божественной вселенной, и был исполнен решимости доказать аббату, что достоин его доверия.
Но, кажется, я отвлекся от главной цели моего повествования.
Моя рукопись призвана стать картой души Франциско, описанием его духовной борьбы, а вовсе не оценкой достижений таких смиренных служителей Господа, как я.
Итак, моя дружба с Франциско началась в капитуле. Думаю, Франциско почувствовал мое прирожденное благородство и оценил мой талант собеседника. Он первым вступил со мной в разговор, и я живо помню его первое замечание:
— Кажется, брат Лукас, твоя ряса тебе немного великовата, — с улыбкой произнес он.
Вскоре длинные нелегкие минуты в капитуле превратились для меня в нечто совершенно противоположное — я с нетерпением ждал каждой возможности поговорить с моим другом… Признаюсь, Франциско был моим единственным другом — если не считать аббата Педро, моего благодетеля.
В первый же год пребывания Франциско в монастыре наши с ним отношения переросли в глубокое взаимное уважение и тесную духовную связь. Единственное, что мешало нашему общению, — это склонность остальных послушников встревать в наши беседы. Иногда радушное поведение Франциско как бы приглашало тех монахов, что не примыкали ни к одной фракции, вступить с ним в разговор.
Временами Франциско бывал очень наивен. Он мог сделать случайное замечание насчет этих одиночек, и они воспринимали его слова как приглашение присоединиться к беседе; тогда наша компания становилась довольно разношерстной.
По случайному совпадению спальное место Франциско находилось рядом с моим. Мы так часто бывали рядом друг с другом, что постепенно привыкли к этому. Когда на первом году пребывания Франциско уехал на Пасху к своей семье, я с удивлением заметил, что мне его не хватает. Просыпаясь, чтобы отслужить утреню, я искоса взглядывал на его пустое ложе, и меня охватывало чувство одиночества в этом громадном монастыре.
Франциско была свойственна огромная сила духа, которая делала его лидером среди обитателей монастыря. Однако у него случались и темные дни: тогда он совсем не улыбался и, словно пребывал в каком-то другом мире. Тогда взгляд его как будто обращался внутрь его души, сосредоточиваясь на неких диковинных населяющих ее существах — возможно, демонах. Все юноши замечали, когда он начинал вести себя странно, мне же казалось тогда, будто само солнце перестает светить.
Не знаю, то ли Франциско предпочитал в такие времена пребывать в одиночестве, то ли его одиночество было вынужденным. Я безуспешно пытался завести с ним разговор в общей комнате, старался обменяться взглядом в монастыре. Иногда он вел себя холодно и отстраненно, иногда вовсе не обращал на меня внимания. Именно в те минуты, когда Франциско больше всего нуждался в моей дружбе, одиночество не отпускало его.
Поначалу я принимал такое поведение друга близко к сердцу. Его отчужденность больно ранила меня. Но со временем я понял, что в его замкнутости нет ничего личного — он пребывал во власти некоей высшей силы.
Что это была за сила? Кто, кроме самого Господа Бога, мог заглянуть в душу человека и все понять? С этой оговоркой я позволю себе скромно заметить, что, по моему мнению, Франциско изо всех сил пытался вырваться из темноты, поглотившей его душу в день смерти его брата. То была жестокая схватка, и иногда казалось, что Франциско проигрывает. Меня очень беспокоили эти его мрачные дни, которые могли длиться неделю, а порой и несколько недель. Видно было, что в такие периоды он очень страдает, и во время одного из затянувшихся приступов я решил поговорить о нем в часовне с братом Хуаном.
После аббата брат Хуан был самым старшим в монастыре. Он занимал свой пост более двадцати лет, но подняться выше уже не мог. Он был таким смуглым, что большинство подозревало: его мусульманская семья приняла христианство после того, как Толедо был отвоеван у неверных.
У брата Хуана сложились с Франциско особые, почти отеческие отношения. Франциско выбрал его в свои духовники и всегда отзывался о нем с глубоким уважением. Во время наиболее тяжелых «приступов» юноши брат Хуан делил с ним часы безмолвия, и аббат Педро называл их тогда «духовным союзом невысказанной скорби».