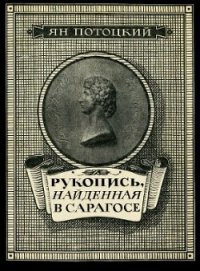Рукопись, найденная в Сарагосе - Потоцкий Ян (читаемые книги читать онлайн бесплатно .txt) 📗
Однажды вечером, когда мы говорили на любимую тему, Эльвира с серьезным видом промолвила:
– Ты не обратила вниманья, сестра, что как только все бренчалы уйдут с нашей улицы и в передних комнатах погаснет свет, можно услышать две-три сегидильи, исполненные не обыкновенным любителем, а скорей мастером.
Муж мой подтвердил ее наблюдение, сказав, что он тоже это заметил. Я вспомнила, что в самом деле слышала что-то вроде этого, и мы стали подтрунивать над сестрой и ее новым поклонником. Однако нам показалось, что к этим шуткам она относится не так весело, как обычно.
На другой день, простившись с бренчалами и закрыв окно, я погасила свет и осталась в комнате. Вскоре я услышала голос, о котором говорила сестра. Певец начал с искусного вступленья, потом спел песню о тайных наслаждениях, потом другую – о робкой любви, и после этого я не слышала больше ничего. Выходя из комнаты, я увидела сестру, подслушивающую за дверью. Я сделала вид, будто ничего не вижу, но за ужином обратила внимание на то, что она задумчива и рассеянна.
Таинственный певец ежедневно повторял свои серенады и так приучил нас к своему пенью, что, только прослушав его, мы садились ужинать. Это постоянство и таинственность возбудили любопытство Эльвиры и произвели на нее впечатление.
В это время мы узнали, что в Сеговию приехало новое лицо, очень всех заинтересовавшее. Это был граф Ровельяс, удаленный от двора и по этой причине ставший очень важной персоной в глазах провинциалов. Ровельяс родился в Веракрусе; мать его, родом мексиканка, принесла в дом мужа огромное приданое, а так как в то время американцы пользовались благоволением двора, молодой креол переплыл море в надежде получить титул гранда. Ты понимаешь, сеньора, что этот уроженец Нового Света имел слабое представленье об обычаях Старого. Зато он ослеплял пышностью, и даже сам король забавлялся порою его простодушием. Но его поведение диктовалось кичливым самолюбием и кончилось тем, что все стали над ним смеяться.
У молодых людей был тогда рыцарский обычай выбирать себе даму сердца. Они носили ее цвета, а иногда и вензель, – например, во время турниров, которые назывались парехас.
Ровельяс, отличавшийся невероятным тщеславием, вывесил вензель принцессы Астурии. Королю эта мысль очень понравилась, но принцесса, сочтя себя оскорбленной, послала придворного альгвасила, который арестовал графа и отвез в тюрьму, в Сеговию. Через неделю Ровельяса освободили с обязательством не выезжать из этого города. Причина изгнанья, как видишь, была не очень лестной для самолюбия, но граф даже ею ухитрился хвастать. Он с удовольствием распространялся о своей опале и давал понять, что принцесса была к нему неравнодушна.
В самом деле, Ровельяс страдал всеми видами самомнения. Он был уверен, что умеет все на свете и каждый свой замысел в состоянии осуществить, – особенно тщеславился он своими качествами тореадора, танцора и певца. Не было таких невеж, которые оспаривали бы у него наличие последних двух талантов, только быки не проявляли подобной благовоспитанности. Но граф, с помощью своих пикадоров, почитал себя непобедимым.
Я уже говорила, что мы званых вечеров не устраивали и принимали только пришедшего с первым визитом. Муж мой пользовался всеобщим уважением как ради своего происхожденья, так и ради воинских заслуг, поэтому Ровельяс решил начать с нашего дома. Я приняла его, сидя на возвышенье, а он сел поодаль, согласно обычаям нашего края, требующим соблюдения расстояния между нами и мужчинами, приходящими нас навестить.
У Ровельяса язык был хорошо подвешен. Посреди разговора вошла сестра и села рядом со мной. Красота ее привела графа в такое восхищенье, что он просто онемел. Пролепетал, запинаясь, несколько бессвязных фраз, потом спросил, какой ее любимый цвет. Эльвира ответила, что пока не отдавала предпочтенья ни одному.
– Сеньорита, – возразил граф, – ты проявляешь ко мне безразличие, и мне не остается ничего другого, как объявить траур, поэтому отныне единственным моим цветом будет черный.
Моя сестра, совершенно непривычная к подобным любезностям, не знала, что ответить. Ровельяс встал, откланялся и ушел. В тот же вечер мы узнали, что он всюду, где был с визитом, ни о чем другом не говорил, как только о красоте Эльвиры, а на другой день нам сообщили, что он заказал сорок темных ливрей, шитых золотом и черным шелком. С тех пор мы больше не слышали традиционных серенад.
Зная обычай дворянских домов Сеговии, не позволяющий часто принимать гостей, Ровельяс со смирением покорился своей участи и проводил вечера под нашими окнами вместе с молодежью благородного происхожденья, оказывавшей нам эту честь. Так как он не получил титула гранда, а большая часть наших знакомых среди молодежи принадлежала к кастильским titulados, эти господа считали его своей ровней и обращались с ним соответствующим образом. Однако не замедлили сказаться преимущества богатства: когда он играл, все гитары умолкали, и граф первенствовал как в беседах, так и в концертах.
Но это превосходство не удовлетворяло тщеславие Ровельяса; он горел неодолимым желанием встретиться с быком в нашем присутствии и потанцевать с моей сестрой. Он торжественно объявил нам, что велел доставить сто быков из Гвадаррамы и выложить паркетом место, находящееся в ста шагах от амфитеатра, где, по окончании зрелищ, общество сможет провести ночь в танцах. Эти слова произвели большое впечатление в Сеговии. Граф всем вскружил головы и если не разорил всех, то, во всяком случае, подорвал благосостояние.
Как только разнесся слух о бое быков, наши молодые люди засуетились как одурелые, обучаясь позициям, применяемым в этих боях, заказывая богатые наряды и красные плащи. Ты сама догадываешься, сеньора, что женщины в это время совсем потеряли голову. Они примеряли все, какие только у них были, платья и головные уборы; больше того, выписывали модисток и портних; одним словом, богатство уступило место кредиту.
Все были так заняты, что наша улица почти обезлюдела. Однако Ровельяс в обычное время приходил к нам под окна. Он сказал, что велел вызвать из Мадрида двадцать пять кондитеров, и просит нас решить, достаточно ли они искусны в своем мастерстве. В ту же минуту мы увидели слуг в темной ливрее, шитой золотом, которые несли на золоченых подносах прохладительные напитки.
На другой день повторилась та же история, и муж мой с полным основанием начал сердиться. Он нашел неприличным, чтобы порог нашего дома был местом публичных сборищ. Как всегда, он нашел нужным посоветоваться со мной; я, как всегда, была согласна с ним, и мы решили уехать в маленький городок Вильяку, где у нас были дом и земля. Таким путем нам даже легче было соблюсти экономию, пропустив несколько балов и зрелищ, а также избежав некоторых лишних расходов на одежду. Но так как дом в Вильяке требовал ремонта, пришлось отложить отъезд на три недели. Как только наше намеренье стало известно, Ровельяс сейчас же дал выход своему страданию и выразил чувства, которыми пылал к моей сестре. Эльвира в это время, по-моему, совсем забыла о трогательном вечернем пении, но тем не менее принимала объяснения графа с благоприличной холодностью.
Надо заметить, что сыну моему в то время было два года; с тех пор он сильно вырос, – как вы видели, потому что он и есть молодой погонщик, едущий с нами. Этот мальчик, которого мы назвали Лонсето, был единственной нашей утехой. Эльвира любила его не меньше, чем я, и могу сказать, что он один веселил нас, когда нам очень уж докучала назойливость сестриных поклонников.
Когда стало можно ехать в Вильяку, Лонсето заболел оспой. Нетрудно понять нашу печаль; дни и ночи проводили мы у постели больного, и все это время тот же нежный вечерний голос опять распевал грустные песни. Эльвира вспыхивала, едва заслышав вступление, однако продолжала усердно хлопотать возле Лонсето. Наконец милый ребенок выздоровел, и окна наши снова открылись для вздыхателей, но таинственный певец умолк.
Как только мы показались в окне, Ровельяс уже стоял перед нами. Он сообщил, что бой быков отложен только ради нас, и просил, чтобы мы сами назначили день. Мы отвечали на эту любезность, как надлежало. В конце концов незабываемый день был назначен на следующее воскресенье, которое наступило – увы! – слишком быстро для бедного графа.