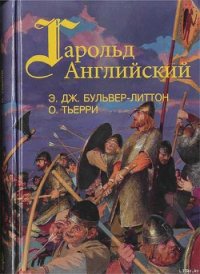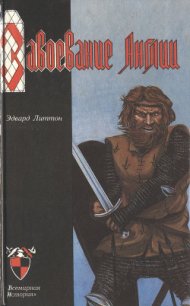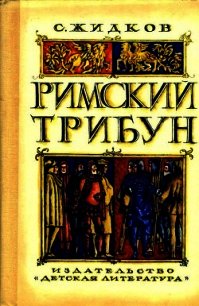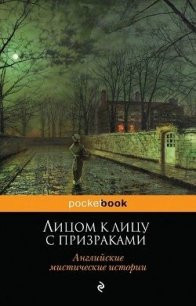Последний римский трибун - Бульвер-Литтон Эдвард Джордж (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt) 📗
– Ваши слова добры, – возразил рыцарь, – но вы не знаете всей причины горя. Отец Аделины, гордый вельможа, умер, говорят, от горя, но старики умирают и от многих других болезней! Мать, гордившаяся своим происхождением от владетельных особ, восприняла все гораздо строже, чем отец: она требовала мщения. Это странно, потому что она религиозна, как доминиканец, а мщение – не христианское чувство в женщине, хотя оно – рыцарская добродетель в мужчине. У нас был мальчик, наше единственное дитя, утешение Аделины в мое отсутствие. Он стоил для нее целого мира! Она любила его так, что я бы ревновал, если бы у него не было ее глаз и если бы он не был похож на нее, когда спал! Он рос среди нашей дикой жизни крепкий и красивый; из этого молодого шалуна вышел бы храбрый рыцарь! Но злополучные звезды повели меня в Милан, где я имел дело с Висконти. В одно прекрасное июньское утро мальчик был украден.
– Украден! Как? Кем?
– На первый из этих вопросов ответить легко, – мальчик со своей нянькой был на дворе, ленивая девка оставила его, как она уверяет, только на минуту или на две, чтобы принести ему какую-то детскую игрушку. Когда она вернулась, он исчез; следов никаких, исключая хорошенькой шапочки с пером! Бедная Аделина! Много раз я видал, как она целовала эту шапочку, до тех пор, пока вся она не была истерзана слезами!
– Странное приключение, право. Но какой интерес мог...
– Я вам скажу, – прервал Монреаль, – единственную догадку, какую я мог допустить. Мать Аделины, узнав, что у нас есть сын, прислала Аделине письмо, которое чуть не растерзало ее сердца, упрекая ее за любовь ко мне, как будто бы это ее делало презреннейшей женщиной в мире. Мать обязывала ее иметь сострадание к ребенку и не воспитывать его для жизни разбойника – так ей угодно было называть смелое поприще Вальтера де Монреаля. Она предлагала воспитать ребенка в своем скучном замке, вероятно думая сделать его монахом. Она сильно рассердилась, когда мать не захотела расстаться со своим сокровищем. Я думал, что, вероятно, она украла нашего ребенка частью из мщения, частью из глупого сострадания к нему, частью, может быть, из какого-нибудь благочестивого фанатизма. Расспрашивая, я узнал от няньки (которая, если б не была одного пола с Аделиной, не избавилась бы от моего кинжала), что во время их прогулок женщина преклонных лет, по-видимому, низкого звания (это могло быть переодевание!), часто останавливалась, ласкала ребенка и восхищалась им. Я немедленно поехал во Францию, отправился в замок де Курваль, – он перешел к ближайшему наследнику, а старая вдова уехала, куда – никто не знал, но догадывались, что в какой-нибудь отдаленный монастырь, для принятия монашеского обета.
– И вы с тех пор никогда ее уже не видали?
– Видел в Риме, – отвечал Монреаль, бледнея. – В последнее время моего пребывания там я неожиданно встретился с ней и, наконец, узнал судьбу моего мальчика и справедливость моей догадки. Она призналась в похищении – а мой ребенок умер! Я не решился говорить об этом Аделине; мне тикая весть представляется чем-то похожим на выдергивание стрелы из раны; она умерла бы, вдруг лишась томящей неизвестности. У нее еще есть надежда, которая утешает ее; хотя сердце мое обливается кровью, когда я подумаю, что эта надежда потеряна. Пусть это пройдет, синьор Адриан.
И Монреаль вскочил на ноги, как будто стараясь посредством напряженного усилия сбросить слабость, овладевшую им при рассказе.
– Не думайте больше об этом. Жизнь коротка, в ней много терний – не будем пренебрегать никаким из ее цветов. Это и благочестие, и мудрость. Природа, предназначавшая меня к борьбе и трудам, к счастью, дала мне сангвинический нрав и эластическую душу француза, и я жил довольно долго для того, чтобы не считать злом смерть в молодых летах. Пойдемте, синьор Адриан, к Аделине, пока вы не уехали, если только вы должны ехать. Скоро встанет месяц, и отсюда недалеко до Фонди. Я не поклонник вашего Петрарки, но вы вежливее меня: вы хвалите наши провансальские баллады и должны послушать, как Аделина поет их, чтобы ценить их еще больше.
По мере того, как два собеседника шли все далее по берегу, музыка становилась все явственнее, и они невольно начали ступать осторожнее по густому и душистому дерну, услыхав голос Аделины, хотя и не сильный, но удивительно нежный и чистый, напевающий грустную песню.
– Аделина, моя нежная ночная птичка, – сказал Монреаль полушепотом и, тихо подойдя к ней, припал к ее ногам. – Твоя песня слишком грустна для этого золотого вечера.
– Никакой звук не доходит до сердца, если он не приправлен грустью. Истинное чувство, Монреаль, – близнец меланхолии, хотя не унынию, – проговорил Адриан.
Аделина взглянула кротко и одобрительно на Адриана; ей понравилось выражение его лица, а еще более понравились эти слова, истину которых женщины могут признать скорее, нежели мужчины. Адриан отвечал на ее взгляд своим, исполненным глубокой красноречивой симпатии и уважения. В самом деле краткий рассказ Монреаля возбудил в нем глубокое сочувствие к ней; Даже в разговорах с блистательной королевой, ко двору которой он был послан, он не обнаруживал такого рыцарского и искреннего уважения, какое оказывал этой одинокой и печальной женщине на берегах Террачины, покрытых вечерним сумраком.
Адалина слегка покраснела и вздохнула; последовала пауза, между тем как Монреаль, не обративший внимания на последнее замечание Адриана, пробегал пальцами по струнам лютни.
– Мой милый синьор, – сказал он, подавая Адриану лютню, – пусть Аделина будет судьей между нами, какая музыка – ваша или моя – слаще для нежных объяснений.
– Ах, – скапал Адриан, смеясь, – я боюсь, господин рыцарь, что вы уже подкупили судью.
Глаза Монреаля и Аделины встретились, и в этом взгляде Аделина забыла все свои печали.
Привычной и ловкой рукой Адриан пробежал по струнам и запел, выбрав песню, которая была менее искусственна, чем большая часть бывших у его соотечественников в моде.
– Теперь, – сказал он, кончив, – лютня – вам. Я только сыграл прелюдию перед вашим призом.
Провансалец засмеялся и покачал головой.
– Если бы у нас был другой судья, – сказал он, – то я бы разбил свою лютню на моей собственной голове, за мою мысль спорить с таким соперником; но я не должен уклоняться от состязания, которое сам вызвал, хотя бы даже мне приходилось быть побежденным дважды в один день. – С этими словами рыцарь св. Иоанна пропел «Песню трубадура» глубоким и чрезвычайно мелодическим голосом, которому недоставало только технической обработки для того, чтобы не бояться никакого соперничества.
Таким образом они проводили время то в разговорах, то в пении, между тем как лесистые холмы бросали свои острые, длинные тени на море. Над морем, окрашенным медленно потухающими отблесками розы и пурпура, которые остались сумеркам в наследство от давно зашедшего солнца. Вдали по очарованному берегу летали светлячки. Наконец, из-за темных гор, покрытых лесом, тихо выплыл месяц, озаряя веселую палатку и блестящий знак Монреаля, зеленый дери и полированные кольчуги солдат, лежавших на траве.
Адриан неохотно вспомнил о своем путешествии и встал, чтобы ехать.
– Боюсь, – сказал он Аделине, – что я задержал вас слишком долго на ночном воздухе; но эгоизм мало рассуждает.
– Нет, вы видите – мы предусмотрительны, – возразила Аделина, указывая на плащ Монреаля, в, который он давно уже закутал ее, – но если вы должны ехать, то прощайте, и желаю вам успеха!
– Надеюсь, мы еще увидимся, – сказал Адриан.
Аделина тихонько вздохнула, и Колонна, взглянув на ее лицо при лунном свете, к которому оно было слегка обращено, был тягостно поражен его почти прозрачной нежностью. В порыве сострадания, он, прежде чем сел на лошадь, отвел Монреаля в сторону.
– Простите меня за дерзость, – сказал он, – но для человека столь благородного эта дикая жизнь – едва ли приличное поприще. Я знаю, что в наше время война освящает всех детей своих; но прочное положение при дворе императора или почетное примирение с вашим рыцарским братством были бы лучше...