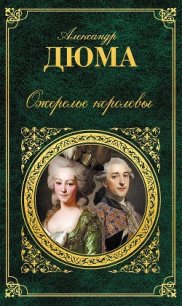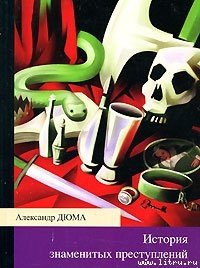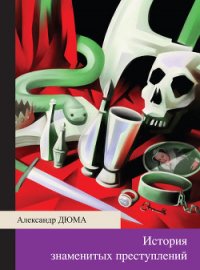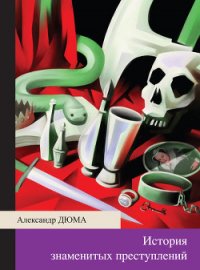Две королевы - Дюма Александр (книга жизни TXT) 📗
Королева разволновалась и, как всегда в подобных ситуациях, забыла об испанском языке и испанских обычаях; она заговорила на языке своих юных лет, будто опять была Марией Луизой Орлеанской; ее речь была преисполнена искренности и уверенности. Герцог слушал ее с молчаливым восторгом; он взял крестик, который она ему протянула, жарко поцеловал его и крепко зажал в кулаке, затем, преклонив колено перед королевой, сказал:
— Сударыня, ради спасения вашей чести и жизни, покиньте это место. Вокруг вас — только ловушки и опасность. Раз вы попали сюда, то, по неизвестной мне причине, слуги инквизиции сами захотели, чтобы вы пришли. Они знают, что вы здесь, и слушают вас! И какой бы невинной ни была наша встреча, они сумеют представить ее как преступление, повернут против вас и меня добрые слова, которые вы произнесли. Не знаю, кто привел вас в мою камеру, но для них ведь все средства хороши, они могли использовать преданность тех, кого вы любите, чтобы заманить вас сюда, если не нашлось иных способов. И всей моей жизни не хватит — если мне оставят ее, — чтобы оплатить то мгновение, которым я обязан их коварству и вашему доброму сочувствию; но если вы не хотите, чтобы я умер, вернитесь во дворец и больше не покидайте его; дождемся решения моей участи и, поверьте, если мне суждено отдать людям жизнь, дарованную Господом, последними словами на моих устах будут два имени: его святое и ваше!
Королева заплакала, услышав такие слова; горячие слезы лились по ее щекам, и она даже не подумала утереть их. Луизон просунула голову из-за двери и, увидев королеву в таком состоянии, вошла в камеру.
— Надо возвращаться, госпожа, его светлость верно говорит, мы и так надолго задержались здесь. Филипп умирает от страха, говорит, что скоро из зала суда начнут выходить и нам лучше уйти до того подальше: мы рискуем и нашей жизнью и жизнью Филиппа!
— Вы правы, — опомнилась Мария Луиза, — я отвлеклась, забыла об опасностях, которым подвергаю вас, пора идти! В путь! Прощай, герцог, прощай! Да хранит и защитит тебя Небо! Никогда еще в груди дворянина не билось столь благородное сердце. Прощай! Мы еще встретимся, я убеждена в этом, ибо Бог справедлив.
Луизон набросила ей на голову капюшон, а коленопреклоненный герцог в это время целовал королеве руку. Верная служанка повлекла Марию Луизу за собой, Филипп; запер дверь, и вскоре они исчезли во тьме подземелья.
Они не встретили на своем пути никаких помех и никого из людей. Тишина и спокойствие там, где обычно в этот час царило оживление, где слуги инквизиции сновали взад и вперед, направляясь на допросы или заседания суда, удивили Луизон и королеву. Филипп был поражен не меньше, чем они.
— Вероятно, судят какого-то важного преступника, чья судьба интересует их и удерживает в зале, — сказал он.
— А у вас разве нет какого-нибудь дела? — спросила Луизон. — Неужели вы не должны показаться где-то?
— Вскоре я должен появиться на заседании, не прийти туда было бы рискованно, давайте поторопимся!
Через полчаса королева была уже в своих покоях и в полной безопасности.
XX
Прошло больше месяца, прежде чем наступил день, назначенный для аутодафе. При дворе и в самом Мадриде только и говорили о великолепной церемонии, которая должна была стать одной из самых значительных за несколько последних веков. Предполагалось сжечь пятьдесят евреев, сколько-то еретиков и тех, кто вернулся к своей прежней вере; со всех уголков Испании стекались люди, чтобы присутствовать на церемонии; найти место, чтобы расположиться, было невозможно даже за звонкую монету. Окна, балконы, террасы, даже крыши и трубы — все было отдано внаем и по баснословной цене; казалось, весь народ был объят кровожадным безумием.
Мария Луиза больше ничего не слышала о своем мажордоме. Несмотря на ее настойчивые просьбы, король и королева-мать отказались поговорить о нем с великим инквизитором. Мария Луиза оказалась смелее, она приняла у себя этого таинственного и опасного человека и задала ему вопросы, которые любой другой его собеседнице стоили бы жизни.
Он отвечал ей с глубоким уважением и большим почтением, но так и не сказал ни одного слова о том, что она так хотела узнать. Судьба герцога по-прежнему была окутана непроницаемой тайной. К тому же одно обстоятельство усиливало беспокойство Марии Луизы и ее служанки: через два дня после посещения королевой тюремной камеры исчез Филипп, но никто этому не удивился и невозможно было узнать, что с ним стало.
Наконец встало солнце, которому суждено было освещать этот ужасный день. Королева не смыкала глаз всю ночь, а когда занялась своим туалетом, попросила принести траурную одежду.
— Сударыня, — обратилась к ней герцогиня де Альбукерке, — сожалею, но я вынуждена возразить вашему величеству: это невозможно. Король и королева появляются на аутодафе в праздничных нарядах; для вас приготовлено платье, которое ваше величество еще не надевали, но ткань и драгоценности вы недавно выбрали сами.
— О! Так я выбирала их для этого? — прерывающимся голосом воскликнула королева. — Если бы я знала!
Она позволила одеть себя, не сопротивляясь, но и не помогая служанкам, и ни разу не взглянула в зеркало: тихо плакала, как женщина, смирившаяся с огромным несчастьем, которому не может помешать, хотя и понимает, как оно велико. Король пришел за ней, славный Нада уцепился за юбку королевы и пообещал, что не оставит ее. Главная камеристка поддерживала королеву с другой стороны, просила ее собрать все свое мужество и немного утешила ласковыми словами. Она запаслась сама и обеспечила фрейлин всеми необходимыми укрепляющими средствами, нюхательной солью, и кортеж тронулся под громкие овации восторженной толпы.
Спустившись по дворцовой лестнице, королева увидела на нижней ступеньке графа де Шарни, бледного, как и она, и приветствовала его глубоким реверансом, не скрывая скорби, запечатлевшейся у нее на лице.
— О! — прошептала она. — Граф что-то знает, ведь де Асторга — его благодетель, и пришел, чтобы оплакать его вместе со мной.
— Смелее, сударыня! — прошептала главная камеристка. — Будьте мужественны! Настал час испытания.
Тяжелая карета тронулась; ехали шагом до площади Майор, где был возведен костер и приготовлены ложи.
Королеву, поднимавшуюся по ступенькам, пришлось поддерживать; она сама напоминала жертву, обреченную на муку, и ей довелось услышать, как наблюдавшая за ней простая женщина сказала своей подруге:
— Посмотри, как бледна француженка!
— Еще бы, — ответила та, — ведь будут сжигать ее ухажера, герцога де Асторга.
— И это очень справедливо! Надо бы сжечь всех волокит и всех еретиков.
Произнеся столь мудрое суждение, женщина, так же как ее подруга, отступила под натиском алебарды гвардейца-валлона, подтолкнувшего их.
Король занял свое место, королева села рядом; она машинально помахала рукой толпе, издававшей неистовые крики; Мария Луиза двигалась, словно автомат, приводимый в движение пружиной и пущенный в ход по чьей-то воле. Она села, потому что сел король, смотрела перед собой, ничего не видя, но все же заметила орудия пыток, издала глухой стон и опустила голову.
Страшное действо началось: приговоренные, будто солдаты, вышедшие на смотр, прошли двумя рядами мимо дворцовой трибуны, все они были одеты одинаково: в балахоны, которые называются санбенито. На этих черных балахонах спереди и сзади красной краской были нарисованы языки пламени и черти. Утех, кого должны были сжечь, пламя располагалось сверху, а у тех, кого собирались пытать, но не до смерти, — снизу; у остальных, кого привели сюда в назидание, на балахонах были изображены только черти. Никакого различия, никакого знака или имени, позволяющего узнать, кого прикрывает капюшон огненного цвета, кто тот несчастный, что страдает под этой мерзкой маской! Королева предпочла бы отвести от них взгляд, но какая-то непреодолимая сила приковала его к жертвам. Ей хотелось разорвать эти покрывала, чтобы увидеть среди лиц, обезображенных пыткой и страхом смерти, благородные черты своего мажордома. Некоторые из несчастных еле передвигали ноги, другие шествовали решительным шагом, с высоко поднятой головой; были и такие, что уже не могли идти — их поддерживали исповедники; не было ничего печальнее и ужаснее такой процессии, но, тем не менее, она вызывала бурю аплодисментов у толпы и разжигала интерес у всех этих невежд, полагавших, что они воздают хвалу Богу, уничтожая его создания!