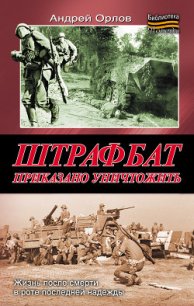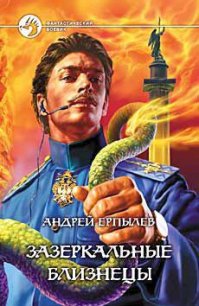Харбинский экспресс - Орлов Андрей Юрьевич (читать книги txt) 📗
Царь в силах удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полицейский департамент (выразил князь надежду) в конце концов сумеет унять террористов. Но как утихомирить потомственных дворян и сиятельных бюрократов? Что делать со светскими дамами, которые целыми днями ездят из дома в дом и распространяют слухи про царя и царицу гнуснейшего содержания? А отпрыски князей Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? С ними как поступить? А князь Трубецкой, ректор Московского университета, который превратил это почтеннейшее учебное заведение в рассадник революционеров?! Как быть с профессором Милюковым, считающим своим долгом разъезжать по заграницам и порочить режим? И какой участи достоин граф Витте, возведенный еще государем императором Александром III из простых чиновников в министры, специальностью которого стало информирование газетных репортеров скандальными историями, дискредитирующими семью государя?
О, эта интеллигенция! Профессора, провозглашающие со своих кафедр, что великий Петр родился и умер негодяем! Все наши газеты, ликовавшие по поводу наших же неудач на японском фронте, члены Государственной думы, распускающие сплетни, будто между Царским Селом и ставкой Гинденбурга установлен беспроволочный телеграф, — как противостоять им? Куда девать командующих армиями, которые более интересуются антимонархическими стремлениями, нежели делами на фронте?
Словом, картина, нарисованная великим князем, была ужасающей. Но даже не это потрясло многоопытного филера. Главным было вот что: в словах великого князя он уловил безнадежность.
ОНИ смирились. Романовы. А тогда уж и действительно — кончено.
Когда все полетит в тартарары, самым правильным будет оказаться подальше. Прежде всего, от столицы. В Петрограде-то и заварится каша — тут Клавдий Симеонович не сомневался. Оттого и подал прошение об отставке. Да только начальство решило иначе. И начертало такую вот резолюцию:
«В связи с вероятным скорым и победоносным окончанием войны следует ожидать спада антиправительственных выступлений и, как следствие, значительного смягчения условий службы полицейских чинов. В этой связи увольнение с выключением из списков представляется нецелесообразным…»
Вот так-то.
Сам для себя Клавдий Симеонович решил, что полыхнет в июле. Однако ошибся — заварушка началась ранней весной. [8]К этому моменту «эпилептики революции» и «паралитики власти» окончательно расползлись по полюсам. Все чувствовали — что-то грядет, а вышло все равно внезапно.
Началось с неувязки с хлебом. С черным — белого-то хватало. А все оттого, что метель, мороз, и дороги к чертям занесло. Вот и не подвезли муку. Ну, понятное дело, слухи: на хлеб-де карточки вводят. И кинулся народ скупать ковриги на сухари. Часами толклись в «хвостах», мерзли, а все одно многие с пустыми руками домой возвращались. Конечно, сами и виноваты — потерпеть дня четыре, и дело с концом. Однако озлились: как же так, виданное ли дело — за хлебом «хвосты»! А вот вам всем: долой царя в таком случае!
Еще и восьмое марта выпало, социалистический женский день. Просто одно к одному. Социалисты забастовку приготовили — впрочем, вполне рядовую — и нате вам, ситуация. Рабочие заводов военного министерства, которые на работу в тот день не пошли, двинулись на улицы — а там как раз митинги по поводу хлебного «безобразия». Стали снова кричать: «Долой!» — уже громче. И — ничего. Сошло с рук. Тогда пустились еще громче вопить. И снова — бездействие властей предержащих. А дальше, по русскому обычаю, пошли громить лавки. Полиция сунулась — а толку? Цепочки городовых в десять шашек супротив тысячной толпы? Просто смешно.
И, наконец, кровь пролилась. Первая — своя, полицейская. В городовых камни да доски кидали, секли осколками льда. А на второй день беспорядков застучали из толпы револьверы. Раненых было много, нескольких застрелили насмерть. В полиции же приказ: оружие не применять. Зато начальство распорядилось агентов в штатском внедрять в толпу — чтоб, значит, ловить агитаторов. Да только пойди, поймай. К тому же, разве хороший агент даст себя обнаружить? Некоторые попробовали, усердие проявили. И нашли их потом: кости переломаны в студень, словно и не было.
Многие тогда сильно на казаков надеялись. Да забыли, что шел уж третий военный год, станичники не те были. Даже и без нагаек. Куда им против толпы? А многие (и это тоже доподлинно было известно) сочувствовали городским горлопанам. Так что казаки просто стояли за полицейскими, ради проформы. Не вмешивались.
На второй день на митинге некий пьяный казак шашкой зарубил пристава Крылова — как раз возле памятника государю Александру III. Тут что началось! Казаков буквально утопили в хмельном разливанном море, кормили, братались, разве что на руках не носили. Ликовали: «С нами станичники, с нами! Не выдадут!»
Не выдали. На свою голову. Но это уж позже.
А тогда Клавдий Симеонович посмотрел на все эти кульбиты и понял, что пришло время. Надобно уносить ноги. Наутро, 11 марта, в седьмом часу вышел он со своей казенной квартиры — чтоб больше никогда в нее не возвращаться. И пеший отправился прямиком на Николаевский вокзал, откуда уехал в Чернигов. Там его след затерялся на долгое время. И проявился вновь только в середине следующего года в Маньчжурии, незадолго до описываемых событий.
Глава десятая
СТРАСТИ ВОДНЫЕ И ЛЕСНЫЕ (ОКОНЧАНИЕ)
Сделав обзор жизненному пути Клавдия Симеоновича, генерал к разговору интерес потерял и невежливо отвернулся. Но Сопову было плевать на столь явное неуважение. Проницательность Ртищева казалась подозрительной и даже опасной. А Сопов был из людей, благодушная внешность которых обманчива. И угроза не столько вызывала в нем страх, сколько к действию побуждала.
Больше всего Клавдий Симеонович не любил непонятностей. Как в событиях, так и в людях. За жизнь он повидал всякого и вынес твердое убеждение, что народишко в целом — предмет незатейливый, а если и попадаются средь него свои перлы, то при вдумчивом рассмотрении всегда можно найти подход. Так сказать, подобрать ключик.
Сейчас он пытался найти какое-то объяснение метаморфозе, происшедшей с генералом за последние часы. Но безуспешно. И это было нехорошо. Прямо сказать, это пугало.
Где-то наверху раздалось слышанное уже стрекотание. Оно становилось то тише, то громче, словно пробовал силы некий огромный сверчок.
Ртищев по-прежнему стоял у кромки болота и смотрел на гнилую желтую воду. Закатное солнце наискось пробивалось сквозь сосновые кроны, и в его лучах генеральский лик смотрелся профилем на старинной монете. Казалось, этот человек мыслями находился теперь где-то в невообразимой дали.
Ну, где он сейчас обретался, неважно. Существенно другое: как ни метко определил Ртищев род занятий Клавдия Симеоновича, знать наверняка он не мог все равно. И для начала стоило принудить генерала сомневаться в собственной прозорливости. Дело в том, что одна из заповедей, которую внушал своим людям фон Коттен, гласила: что бы ни случилось — не попадайся. А попался — не признавайся.
Сопов поднялся и подошел к генералу.
— Ваше превосходит-ство…
Генерал обернулся.
— Что вам?
— Знаете, пора.
— То есть?
— Да вот живот подвело, сил нет терпеть. Так что на вашего кота я согласен.
Генерал молча поглядел на Клавдия Симеоновича.
— Только, хоть вы меня и окрестили жандармом… — Сопов замялся. — Словом, сам приготовить эту скотинку к употреблению не смогу. Не сумею. Ни за что, увольте. На вас вся надежда.
Ртищев, казалось, колебался.
— Рано, — сказал он. — Придется вам пострадать.
— Отчего ж?
— Оттого, что вы настоящего голода еще и не чувствовали. Это у вас так, нетерпение желудка. Оно скоро пройдет. Вон, ягод болотных пожуйте. Только не черных — а желтых, с косточкой.
Кот во время этого разговора сидел тихо в своей корзине. Словно понимал, что судьба решается. Свернулся клубком и глаза закрыл. И только по нервному движению пушистого уха можно было понять, что он не спит и все слышит.