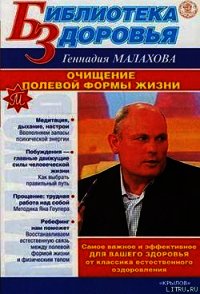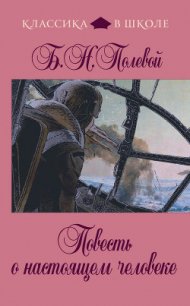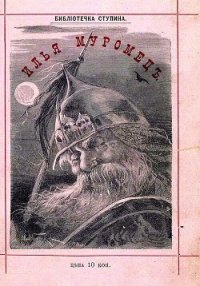Капитан полевой артиллерии - Карпущенко Сергей Васильевич (книги онлайн читать бесплатно txt) 📗
Лихунов не знал, что уже вечером часть форта «Царский дар» была взята силезским ландвером, что командование крепости хотело было вернуть потерю и послало одиннадцать батальонов пехоты, но контратаки почему-то не было предпринято, и скоро весь пятнадцатый форт оказался в руках у немцев. Закрепившись на нем, они предприняли попытку взять с ходу форт шестнадцатый, но с большим уроном отошли. Каково же было удивление Безелера, когда на следующий день послышались взрывы и все увидели, как над не взятыми еще фортами в небо ползут черные громадные клубы дыма. «Русские взрываются! Русские взрываются!» – вопили солдаты ландвера, подбрасывая вверх свои островерхие каски. Но германское командование еще не знало наверняка, что значат эти взрывы, не знало до тех пор, покуда твердо не установило, что русские отступают к линии внутренних фортов. И сразу же весь немецкий фронт пришел в движение, и не только пехота, но и артиллерия двинулась в направлении реки Вкры, мосты которой оказались зажженными. Бригада генерала Пфейля попыталась переправиться, но была жестко обстреляна русскими, поэтому решили дождаться тяжелой артиллерии, и вскоре силезские полки уже находились на другом берегу.
На всех участках фронта защитники Новогеоргиевска уходили, выполняя данный им приказ, однако на всех участках, уходя, защитники пытались завязать серьезное сражение. Но сдавались форт за фортом, и солдаты ландвера, предчувствуя скорую победу, даже забывали осторожность, проникая так близко к укреплениям фортов, что погибали сотнями от собственного артиллерийского огня. Все плотнее и плотнее стискивала крепость петля наступавших германских полков. За отступающими массами русских, буквально след в след, наступали немцы, пока почти одновременно не сошлись они у главной крепостной ограды, у самой цитадели, где укрепились горстки не желавших сдавать Новогеоргиевск смельчаков. Но их сопротивление было коротким.
Одновременно с приказом взрывать форты принимались и другие не менее полезные решения. Сжигались склады с продовольствием или просто отдавались на разграбление, срочно портили винтовки, орудия, топили в Нареве патроны, корабли речной флотилии, уничтожали аэропланы, телефонные станции, расстреливали лошадей.
Вечером комендант крепости генерал-от-кавалерии Бобырь обратился в главную квартиру генерала Безелера с предложением подписать безусловную капитуляцию и в отношении не павших еще участков крепости.
Вскоре горнист протрубил отбой, и начальник штаба с белым флагом ездил на автомобиле по Новогеоргиевску. Четвертого же августа в крепость въехали немецкие уланы, и, как утверждают, на другой день ее посетил император Вильгельм, чтобы поздравить победителей и увидеть русский Илион, павший за неделю.
ГЛАВА 20
Да, Маша на самом деле полюбила Лихунова сразу, едва увидела его в своем доме, едва услышала немного глуховатый его голос, голос человека очень несчастного, как сразу решила она, которого нельзя не любить, потому что он сильно страдает и взывает к состраданию. И способ оказаться рядом с ним она нашла мгновенно, потому как состояла в Обществе Святой Евгении с самого начала войны, но в деле себя до Новогеоргиевска ни разу не испытала и со страхом думала – а сможет ли она переносить вид ран и крови и страданий? И уже расставшись с любимым человеком тогда, у госпитальных ворот, пришлось Маше вскоре увидеть и раны, и кровь, и страдания тех, кого ежедневно все больше и больше везли с передовых. Поначалу Маша ужаснулась, но скорее не оттого, что кровь и раны, увиденные ею, оказались отвратительными – хотя они действительно ей были неприятны, – но тому, что люди, их имевшие, казались ей в страданиях своих эгоистичными и злыми. А ведь она хотела всех любить! Но сердце ее, чуткое и нежное, вовремя шепнуло: ты боишься ран и крови, потому что представляешь их своими, потому что любишь себя, а не этих людей, которые раздражают тебя своим капризным вниманием к себе, жалобами, стонами, которые совсем не похожи на героев, а выглядят слабыми, самовлюбленными неврастениками.
И Маша принялась изживать в себе неприязнь к требовавшим внимания раненым, их раны, даже самые страшные, гнойные, зловонные, уже не вызывали у нее отвращения. Она присутствовала при тяжелейших ампутациях, слышала скрип ножовки, пилившей кости, хруст расходящихся под скальпелем хирурга тканей, спокойно, но еще с изумлением смотрела на блестящее, перевитое сеткой сосудов бьющееся сердце, скользкий зеленоватый кишечник, научилась ловко зашивать раны, бинтовать, делать клизмы. Ее девичьей стыдливости пришлось спрятаться куда-то, потому что каждодневно она имела дело с откровенной и грубой мужской наготой, бинтуя раненых, невольно прикасаясь к запретным частям мужского тела, приносила судно, держала его, пока они, смущенные и злящиеся на свое бессилие, справляли естественные надобности покалеченных войной тел. Женщина, давно уже жившая в ней, отказалась видеть в этих людях мужчин, и не потому вовсе, что в них, раненых, страдающих и слабых, мужского оставалось слишком мало, но оттого, что чувство жалости и милосердия, укоренившееся в ней, никогда бы не позволило увидеть в них орудие утоления, успокоения ее негромко волновавшегося природного начала.
Раненых становилось все больше, не хватало коек, и санитарам пришлось сколачивать в проходах какое-то подобие кроватей из широких досок. А фронт все приближался к цитадели, и все тревожней становились вести, поступавшие с передовой. Теперь в открытую говорили, что крепость со дня на день падет и немцы устроят резню наподобие тех, которыми славились турки. Но Маша не боялась этих слухов, – она страшилась лишь одного: того, что горячо любимый ею человек может погибнуть. Никаких сведений о Лихунове она не имела целый месяц, не знала, погиб ли он или еще воюет, но когда привозили новую партию раненых, она с колотящимся сердцем ходила от носилок к носилкам, страшась узнать Лихунова в тех, чьи лица были изуродованы ранами, спрашивала у легкораненых, не знают ли они о капитане полевой артиллерии по фамилии Лихунов, но ни узнать среди бойцов своего любимого, ни выведать от них что-нибудь о нем Маша не могла, и жестокая, ядовитая тоска нестерпимо больно терзала ее надежду, заставляла думать, что тогда, у госпитальных ворот, они простились навсегда.
И вот, когда разрывы снарядов слышались совсем недалеко, а в крепости уже громили склады, горели зажженные кем-то здания и беженцы, искавшие спасения в цитадели, обезумев от страха, с воем носились по улочкам Новогеоргиевска, в одноэтажное здание госпиталя санитарная фура привезла новых раненых. Старший врач, выйдя на крыльцо, заорал на возницу:
– Ну куда прешься?! Вези в третий, не знаешь разве, что нет у нас больше мест? Бинтов нет, йода нет, коек тоже нет! Ничего нет!
– Ваше высокородие, – заканючил спрыгнувший с козел санитар, – ну еще хоть пяток душ примите. Из-под пятнадцатого форта, настрадались они там, антиллерия…
– Никого не приму! – еще ожесточенней закричал врач. – Вези в третий, тебе говорят!
Но санитар, намаявшийся, как видно, с ранеными и умевший разговаривать с начальством, уезжать не спешил.
– Ну хоть ахфицера-то прими, ваше высокородие. В голову раненный сильно, помрет дорогой, ежели не примешь. Осколок в голове торчит…
Маша, помогавшая обычно принимать привозимых на санитарных линейках раненых, стояла на крыльце подле врача, и, едва услышала об артиллеристах, об офицере, ее вдруг что-то словно толкнуло в спину, направляя к фуре с брезентовым верхом. Она отдернула грязный с кровавыми пятнами полог – на просторной телеге лежали на мятой, гнилой соломе человек семь. Трое или четверо, терзаемые болью, громко, протяжно стонали, другие лежали молча – или померли дорогой, или были милосердно покинуты сознанием, не дававшим этим людям испытывать страдания.
– Костя! – громко, сорвавшимся на рыдание голосом позвала Маша, и, несмотря на то что ей никто не ответил, она уже знала наверняка, что здесь, на этой грязной соломе лежит любимый ею человек.