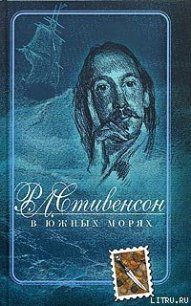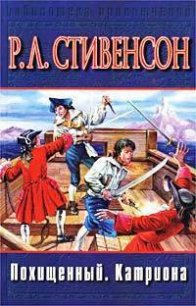Потерпевшие кораблекрушение - Стивенсон Роберт Льюис (читаем книги TXT) 📗
— По вашему мнению, это что-то объясняет? — спросил я.
— Это объяснило бы все, — ответил Нейрс, — если бы не аукцион. Все совпадает, словно кусочки головоломки, если только отбросить то, как они пытались во что бы то ни стало купить свой бриг. И тут мы оказываемся в тупике. Но одно можно сказать с уверенностью, мистер Додд: дело здесь нечисто.
— И похоже на пиратство, — заметил я;
— Похоже на вашу бабушку! — воскликнул капитан. — Нет, не обманывайте себя. У нас с вами не хватит ума, чтобы сообразить, что за этим всем кроется.
ГЛАВА XV
ГРУЗ «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»
В юности я был во всем привержен идеалам своего поколения. Я любил комфорт, любил все то, что мы зовем цивилизацией, поклонялся изобразительному искусству и с удовольствием захаживал в рестораны. В те дни у меня был приятель, не художник, хотя он и был завсегдатаем нашего мирка, где славился своей храбростью и меткими афоризмами. И он, поглядев на длинное меню и колышущийся животик одного из типичных французских гурманов, которым я, признаюсь, немного подражал, заклеймил меня прозвищем «растителя ресторанного жирка». И, пожалуй, он был отчасти прав. Если бы все шло гладко, то теперь я, наверное, наружностью напоминал бы бочонок, а умом и душой того, кто, в сущности; ничуть не отличается от самого заурядного буржуа и филистера, а именно художника, который ничем не интересуется, кроме своего искусства. Я считаю, что над любой художественной школой следует написать золотыми буквами слова Пинкертона: «Не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим». Скучные люди становятся скучными не от природы, а потому, что их совершенно поглощает одна какая-нибудь сторона человеческой деятельности. Это тем более опасно, если занятие такого человека однообразно и обрекает его на такую же однообразную жизнь. В результате большая часть его природных качеств не развивается, а остальные уродуются благодаря перенапряжению. Меня часто удивляла самоуверенность господ, которые, проведя всю свою жизнь в четырех стенах и не имея ни малейшего представления о всем многообразии человеческой жизни, позволяют себе высказывать о ней безапелляционные суждения. Те, кто трудится в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать прекрасные картины или увлекательные романы, но им не следует позволять себе судить об истинном предназначении человека, ибо об этом они ничего не знают. Их собственная жизнь — уродливое порождение мгновения, которое пройдет и будет забыто среди прихотливых капризов истории. А извечная жизнь человека — это физическая работа под солнцем и дождем. И она остается такой с начала времен.
Если бы я мог, то захватил бы с собой на остров Мидуэй всех писателей и художников моего времени. Я хотел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось испытать мне: бесконечные дни разочарования, жары, непрерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все тело и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вызванный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы они услышали грубоватую речь моих товарищей, увидели бы их обветренные лица и залитую ослепительным солнцем палубу, спустились бы в душные сумерки трюма, услышали бы пронзительные крики бесчисленных морских птиц, а главное, испытали бы это чувство отрезанности от всего мира, от всей современной жизни — здесь, на острове, день начинался не с появления утренних газет, а с восхода солнца, и государства, народы, религии, войны, искусство словно совсем перестали существовать.
Я расскажу вам еще кое-что о нашей работе. В носовом помещении хранились товары судовой лавки, трюм был почти полон рисом, нижняя палуба — чаем и шелками. И то, и другое, и третье следовало перегрузить на нашу шхуну. Но это было только началом. Трюм был перегорожен на множество отделений, и некоторые из них, очевидно, предназначавшиеся для более ценных грузов, были обшиты к тому же дюймовыми досками. Где-то здесь, а может быть, в каютах, а может быть, в самых бортах корабля находился тайник. Поэтому нам пришлось сорвать большую часть внутренней обшивки корабля и простукать все оставшееся так, как доктор выстукивает грудь чахоточного больного. И, когда звук становился глухим, мы брались за топоры и врубались в подозрительное место. Тяжелая и очень неприятная работа, потому что из-под топоров летели тучи гнилой пыли. К концу каждого дня внутренности «Летящего по ветру» обнажались все сильнее, все новые балки распиливались и раскалывались в щепу, все новые доски отдирались от бортов и отбрасывались в сторону, и к концу каждого дня мы испытывали новое разочарование. Я не утратил энергии, но начинал терять надежду, и даже Нейрс стал молчаливым и угрюмым. Вечером, после ужина, мы больше почти не разговаривали. Я листал какую-нибудь книгу, а Нейрс хмуро, но упорно высверливал раковины. Человеку постороннему могло показаться, что мы поссорились, на самом же деле в молчаливые часы совместной работы наша дружба крепла.
Когда мы только приступили к работам на бриге, меня поразила готовность, с которой матросы кидались выполнять любое приказание капитана. Они не питали к нему привязанности, но, несомненно, восхищались им. Слово сухого одобрения из его уст ценилось выше самой лестной похвалы и даже доллара, если они исходили от меня. А когда его обычная взыскательная строгость немного смягчалась, вокруг закипало веселое усердие, и, признаюсь, мне начало казаться, что его теория поведения капитана, хотя он и перегибал палку, имела под собой некоторое основание. Однако время шло, и ни восхищение перед капитаном, ни страх уже не могли нам помочь. Матросы устали от безнадежных, бесплодных поисков и изнурительного труда. Они все чаще ворчали и стали работать спустя рукава. Наказания только усиливали их недовольство. С каждым днем они все хуже выполняли порученное им дело, и по вечерам, сидя в своей маленькой каюте, мы, казалось, физически ощущали неприязнь наших помощников.
Несмотря на все наши предосторожности, каждый человек на борту очень хорошо знал, что мы ищем, а кроме того, кое-кто заметил и те несообразности, которые так изумили капитана и меня. Я несколько раз слышал, как матросы обсуждали рассказ капитана Трента и выдвигали самые различные предположения относительно того, где может быть спрятан опиум, — раз они подслушивали наши разговоры, я счел себя вправе отплатить им той же монетой. Таким образом, я мог судить о настроении матросов и о том, насколько подробно известна им тайна «Летящего по ветру». Как-то раз, услышав один из таких разговоров, не оставлявший сомнения, что матросы очень недовольны, я вдруг придумал план, показавшийся мне весьма удачным. Окончательно обдумав его в течение ночи, наутро я поделился им с капитаном.
— А не попробовать ли мне подбодрить команду, предложив награду? — сказал я.
— Если вы думаете, что до сих пор они особенно старались, вы ошибаетесь, — ответил Нейрс, — но других у нас нет, а вы — суперкарго.
Такие слова в устах такого человека, как капитан, можно было счесть полным согласием, и вот команда была вызвана на ют. Капитан начал свою речь, так грозно нахмурив брови, что все, несомненно, ожидали громового разноса.
— Эй, вы! — кинул он через плечо, прохаживаясь по палубе. — Мистер Додд собирается предложить награду первому, кто найдет опиум на бриге. Осла можно заставить бежать двумя способами: дать ему морковки или надавать пинков. Оба эти способа по-своему неплохи. Мистер Додд решил попробовать морковку. И вот что, дети мои, — при этих словах он остановился и, заложив руки за спину, повернулся к матросам, — если через пять дней этот опиум не будет найден, я испробую пинки.
Он умолк, кивнул мне, и я, в свою очередь, обратился к матросам:
— Я выделяю на это дело сто пятьдесят долларов, — сказал я. — Если кто-нибудь сам найдет опиум, он получит все сто пятьдесят, а если кто-нибудь наведет нас на след, он получит сто двадцать пять, а остальные двадцать пять пойдут тому, кто первый найдет самый опиум.
Тут снова вмешался капитан.