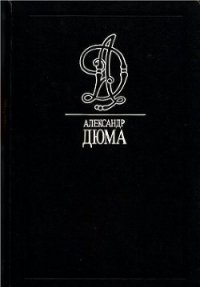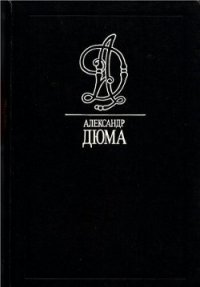Дочь маркиза - Дюма Александр (версия книг .txt) 📗
Жак снова сел в карету и, когда кучер спросил, куда его отвезти, ответил:
— Йозефплац, дом одиннадцать. Ему хотелось поскорее увидеть Еву. Возница углубился в сеть узких улочек и выехал прямо к статуе императора, в честь которого была названа площадь.
Приоткрыв дверцу кареты и высунув голову, Жак пытался угадать, в каком из домиков, стоящих на площади, может жить Ева.
Из всех этих домов только у одного окна и двери были наглухо закрыты; похоже было, что в нем никто не живет.
Жак с тревогой увидел, что кучер направляется прямо к этому дому. Тревога уступила место страху.
Наконец карета остановилась у дверей пустого дома.
— Ну что? — крикнул Жак.
— Да вот, сударь, — ответил кучер. — Приехали.
— Это дом одиннадцать?
— Да.
Жак выскочил из кареты и отступил назад, желая убедиться, что это тот самый дом, который он искал; он порылся в кармане, достал записку Дантона и в сотый раз перечитал ее. Записка гласила:
«Йозефплац, дом 11».
При входе были звонок и молоточек. Жак как безумный бросился к дверям и стал звонить и стучать.
Никто не отвечал.
Мягкий приглушенный звук указывал на то, что внутри все так же крепко заперто, как снаружи.
— Боже мой, Боже мой, — шептал Жак, — что же случилось?
И он еще сильнее потянул за шнурок звонка и еще громче забарабанил в дверь молоточком. Прохожие стали останавливаться.
Наконец в соседнем доме что-то заскрипело, окно растворилось и оттуда высунулась голова. Она принадлежала мужчине лет шестидесяти.
— Простите, сударь, — сказал он на хорошем французском языке с истинно венской учтивостью. — Стоит ли так громко стучать в дверь этого дома: ведь там никто не живет.
— Как никто? — вскричал Жак.
— Так, сударь, дом пустует больше недели.
— Не здесь ли жили две дамы?
— Здесь, сударь.
— Француженки?
— Да.
— Старая и молодая?
— Старая и молодая? Кажется, действительно, старая и молодая, впрочем, я почти не выхожу из кабинета и не интересуюсь соседями.
— Прошу прощения, если я злоупотребляю вашей любезностью, — сказал Жак потерянным голосом, — но… не знаете ли вы, что стало с этими дамами?
— Я что-то слышал о том, что одна из них умерла; да, да, она даже была католичкой. Я припоминаю, что слышал, как ее отпевали, и это помешало мне работать.
— Которая, сударь? — спросил Жак Мере, прижимая руки к груди, — ради Бога, скажите, которая?
— Что «которая»? — не понял старик.
— Которая из них умерла? Старая или молодая?
— А-а, вы об этом, — протянул старик. — Право, не знаю.
— Боже мой, Боже мой, — зарыдал Жак.
— Если хотите, я могу спросить у жены, она любит вмешиваться в чужие дела… она, верно, знает.
— Прошу вас, сударь, спросите же скорее.
Голова старика исчезла. Жак затаив дыхание ждал. Когда старик вновь показался в окне, Жак с замиранием сердца спросил:
— Ну что?
— Умерла старая.
Жак прислонился к карете и вздохнул с облегчением.
— А вторая, вторая? — спросил он еле слышным голосом.
— Вторая?
— Ну да, та, которая жива, молодая, где она?
— Не знаю, надо спросить у жены.
И старик собрался снова пойти к жене — на сей раз, чтобы узнать, что стало с Евой.
— Сударь! Сударь! — остановил его Жак. — Не позволите ли вы мне самому поговорить с вашей женой? Наверно, так было бы проще…
— Да, это проще, — согласился старик. — Подойдите к третьему окну, это окно спальни госпожи Гааль. Я не допускаю ее в свой кабинет.
Старик пошел звать жену, а Жак поспешил к третьему окну.
Тем временем вокруг собралась большая толпа любопытных, и, поскольку оба собеседника говорили только по-французски, те из зрителей, что понимали французский, объясняли остальным, что происходит.
Окно растворилось; из него выглянула г-жа Гааль.
Это была маленькая старушка, кокетливая и нарядная; первым делом она отослала мужа в его кабинет и с любезным видом приготовилась слушать Жака.
Тех из читателей, которые знают восхитительное дружелюбие жителей Вены, мой рассказ нимало не удивит. Венцы — одни из самых добрых и самых приветливых людей на свете.
Не успела старушка раскрыть рта, как Жак сказал ей на превосходном немецком языке:
— Сударыня, скажите мне скорее, что стало с молодой особой, которая жила в соседнем доме?
— Сударь, — отвечала г-жа Гааль, — я доподлинно знаю: молодая особа, именовавшая себя мадемуазель Евой де Шазле, проводила в последний путь свою тетушку, после чего уехала во Францию, где ее ждет возлюбленный.
— О, зачем я не остался с друзьями, чтобы умереть как они и вместе с ними, — прошептал Жак.
Он почувствовал, как сердце его разрывается от горя, и разрыдался, не обращая ни малейшего внимания на окружившую его толпу.

IV. ЗАЛ ЛУВУА
Тридцатого плювиоза IV года (19 февраля 1796 года), в праздничный день, после того как перед лицом собравшейся толпы были торжественно разбиты формы для печатания ассигнатов, успевшие выпустить сорок пять миллиардов пятьсот миллионов — впрочем, мера эта отнюдь не помешала луидору стоить семь тысяч двести франков ассигнатами, — так вот, в тот самый вечер театр Лувуа был ярко освещен, и на фоне этой иллюминации особенно отчетливо выделялась темная громада театра Искусств, купленного год назад у Монтансье, которая, к большому ужасу литераторов, ученых и библиофилов, построила его в пятидесяти шагах от Национальной библиотеки, на том месте, где нынче растут лишь раскидистые деревья, осеняющие красивый фонтан — подражание трем Грациям Жермена Пилона — нашего великого скульптора из Ле-Мана.
Этот театр, который поначалу называли театром Монтансье, а впоследствии театром Искусств, затем стал Оперным театром, пока 13 февраля 1820 года шорник Лувель не убил на его ступенях герцога Беррийского; следствием этого убийства явился декрет, предписывающий стереть это здание с лица земли.
Длинная вереница карет протянулась вдоль улицы Ришелье до дома, на месте которого теперь стоит фонтан Мольера; у дверей сиявшего огнями театра Лувуа из карет под крики рассыльных, оспаривавших у лакеев — ибо вместе с хозяевами появились и лакеи и экипажи — честь открыть дверцу, выходили разодетые дамы и господа, после чего кареты исчезали за поворотом на улицу Святой Анны.
— Буржуа, не желаете ли карету? — кричал в день казни Робеспьера мальчишка у дверей театра Французской комедии, становясь глашатаем аристократии и приветствуя таким образом приход контрреволюции.
С этого дня экипажей стало еще больше, чем прежде. Однако мы не согласны с многочисленными историками, которые утверждают, что после этого ужасного дня старая Франция вновь подняла голову. Нет, со старой Францией было покончено, она осталась в эмиграции, сложила головы на площади Согласия, как ее теперь называют, и у заставы Трона, которая вновь обрела свое исконное имя. (Как известно, одной гильотины, той, что на площади Революции, не хватало, поэтому у заставы Трона установили еще одну.)
Наоборот, это было рождение совершенно новой Франции, настолько новой, что парижане, видевшие ее появление, знали ее, а остальной Франции она осталась неизвестной.
В этой новой Франции не было ничего от прежней: наряды, нравы, манеры, даже язык — все было иным. Если бы Расин и Вольтер, явившие нам образцы прекрасного и правильного французского языка, вернулись в этот мир, они не могли бы понять, на каком наречии изъясняются щеголи и щеголихи времен Директории.
С чем связан этот переворот в нравах, нарядах, манерах, языке?
Прежде всего с необходимостью посыпать песком и закрыть коврами кровавые пятна, которые оставило повсюду царство террора.
Потом, как при всяком обновлении, нашелся человек, ставший воплощением насущных нужд: жажды жизни, наслаждений, любви.
Этим человеком был Луи Станислас Фрерон, крестник короля Станислава и сын Эли Катрин Фрерона, который вслед за Ренодо стал одним из основателей французской журналистики.