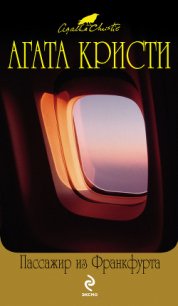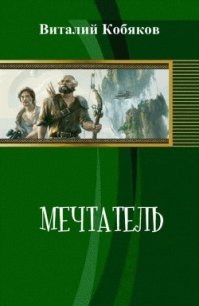Индийский мечтатель - Штейнберг Евгений Львович (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
Рядом не оставалось ни одной дружественной души. Последний, кто мог бы ему помочь, — старый судья Джон Хайд умер еще в июле 1796 года. На других рассчитывать не приходилось.
«Очутился я в тупике, — писал он как-то своему другу Андрею Афанасьевичу Самборскому, отводя душу и рассказывая историю своих злоключений. — Не знаю, на какую дорогу вступить, на кого надеяться. Друзья рассеялись, знакомцы разбежались… Грусть томит больше, нежели полуденный зной. День ото дня слабею и дряхлею. Однако не жалуюсь ни на что, да и раскаиваться, кажется, не в чем, разве только в излишнем легковерии…»
Конечно, Герасим Степанович мог бы завязать новые знакомства и, быть может, со временем обрести и новых настоящих друзей, но его это уже не интересовало. Одолевала апатия, ужасная душевная усталость. Он проводил дни либо за книгой, либо гулял за городом, по берегу реки. Часто сидел он в таверне, потягивая джин, виски или дешевое вино. Незаметно для себя Герасим Степанович пристрастился к хмельному; он полюбил это состояние смутности и дурмана, отвлекавшее его от действительности и помогавшее отдаваться воспоминаниям…
О старых друзьях он знал кое-что. Рам Мохан Рой принял Сону и Чанда к себе в дом. Кавери снова вернулась к прежней бродячей жизни. Чанд хотел взять ее в жены, но она отказалась. Расставаясь с братом, Кавери сказала, что не станет ничьей женой, потому что никогда не забудет одного человека. Так Сону писал Суон-сахибу по ее просьбе. Она просила также написать, что заклинатель змей Рангуин когда-то говорил, что девушек, носящих имена рек, не следует брать в жены, потому что они изменчивы подобно рекам. Она, Кавери, также названа именем реки, но она постоянна. Значит, поверье это лживо… Так она велела написать. Рам Мохан Рой приглашал Суон-сахиба в Бенарес, Герасим Степанович отказался. Если где-нибудь в Индии можно было проделать опыт с театром, то только в Калькутте… Впрочем, он не намерен снова пытаться — он решил возвратиться на родину.
Да, этого ему хотелось больше всего! Давно уже по ночам снились ему березовые рощи, проталины в снежных полях, бревенчатые избы, полосатые версты, адмиралтейский шпиль… Не хотелось только Герасиму Лебедеву после столь долгого отсутствия вернуться с пустыми руками. Надеялся он привезти кое-что, чтобы не конфузиться перед русскими людьми за бесплодные шатания по чужим землям. Да, видно, не выйдет, все обернулось неудачно! Надо возвращаться хотя бы блудным сыном, ищущим приюта и утешения под родительским кровом…
… Он уже изрядно захмелел и, сам того не замечая, стал думать вслух, бормоча невнятные слова и жестикулируя. Впрочем, никто не обращал на это внимания, так как большинство присутствующих находилось приблизительно в таком же состоянии.
Только молодой морской офицер, сидевший за соседним столиком, с явным интересом следил за Лебедевым и, видимо, внимательно прислушивался к произносимым им бессвязным фразам. Наконец офицер решительно поднялся, подошел к Герасиму Степановичу и, к величайшему его удивлению, произнес по-русски:
— Услышав российский язык, не мог отказать себе в удовольствии пожать руку соотечественнику…
Лебедев обомлел. «Неужели я настолько опьянел, что мне стали чудиться видения!» — пронеслась мысль. Незнакомец отрекомендовался лейтенантом российского флота Иваном Федоровичем Крузенштерном.
Окончив Морской кадетский корпус, он вместе с другими выпускниками был послан для прохождения практики в английский флот…
Лебедев слушал, и слезы текли по его щекам.
— Не грезится ли мне? — проговорил он дрожащим голосом. — Русский офицер!.. Русский офицер в далекой восточной стороне!..
Крузенштерн рассказал, что плавает на английских судах уже четыре года. Некоторое время находился в Англии, побывал на берегах Северной Америки, на Вест-Индских островах, на мысе Доброй Надежды. Теперь вот очутился в Калькутте, а отсюда намерен отправиться на юг Китая — в Кантон. Двое его товарищей — Лисянский и Баскаков — пока остались на мысе Доброй Надежды, но вскоре тоже прибудут в какой-нибудь из портов Индии.
Затем он осведомился: с кем имеет честь беседовать? Лебедев стал рассказывать о себе. Герасим Степанович вообще не был мастером обстоятельного и последовательного повествования — теперь же, не от алкоголя (хмель его тотчас же развеялся), а от волнения, он говорил вовсе бессвязно, да еще устарелым русским языком давних времен. Крузенштерн, повидимому, с трудом понимал его и слушал с некоторым недоверием.

Все то, что рассказал Лебедев, представлялось таким странным, настолько не соответствовало внешнему виду этого опустившегося, впавшего в нужду человека, что молодой русский моряк подумал, что имеет дело с каким-нибудь шарлатаном, пытающимся поймать на удочку доверчивого простака.
Герасим Степанович заметил это и внезапно прервал рассказ.
— Не стану вас дольше утомлять моими злоключениями, сударь! — сказал он. — Желал бы лучше услышать новости о нашем отечестве.
И хотя новости, которые мог сообщить ему Крузенштерн, были уже четырехлетней давности, Лебедев слушал жадно, расспрашивал настойчиво о музыке, о знакомых артистах, о том, какие появились новые книги, пьесы. Молодой моряк, уехавший за границу прямо из стен корпуса, плохо знал эти стороны петербургской жизни. Книги же он читал только научные: по географии, астрономии, ботанике, да еще записки разных путешественников.
Они расстались. Лебедев не сказал своего адреса — ему было неловко показывать новому знакомому свое убогое жилище. Он не стыдился своей бедности, но не хотел, чтобы Крузенштерн подумал о нем, словно о пустом болтуне, спившемся человеке.
Однако через несколько дней, рано утром, моряк сам явился к нему.
— Узнал место вашего жительства, — объяснил он.
Лебедев с радостью заметил, что теперь Крузенштерн говорил с ним почтительным тоном и, повидимому, был проникнут искренним сочувствием к его бедствиям.
Объяснялось это тем, что, встретившись с некоторыми английскими моряками и должностными лицами, Крузенштерн расспросил их о своем странном соотечественнике и понял, что ошибся в своем определении.
О нем отзывались как о человеке честном, широко образованном. Теперь, когда Лебедев отказался от попыток завоевать известность в мире наук и искусств, никто больше ему не завидовал, никто его не опасался. Почтенные калькуттские жители охотно воздавали хвалу его театру, его научным трудам и переводам.
— Достойный человек! — заявил градоначальник Александр Кид. — Но, к сожалению, мечтатель!
Приблизительно так же отзывались и другие, с кем привелось говорить Крузенштерну, но каждый неизменно добавлял: «Мечтатель! Чудак! Фантазер!» Слова эти большей частью произносились многозначительно и авторитетно. Солидным дельцам и важным чиновникам было приятно сознавать превосходство здравого смысла и практичности над пустыми мечтами, которые даже человека образованного доводят до такого падения.
Заметив искренний интерес к себе и столь же искреннее сочувствие, проявленные Крузенштерном, Герасим Степанович постепенно приободрился и подробно рассказал все, что с ним произошло.
Когда рассказ был окончен, моряк долго молчал. Потом, пожав руку Лебедеву, сказал:
— Нужно поскорее возвращаться на родину, Герасим Степанович!
— Господи, — воскликнул Лебедев, — да ведь это единственная моя мечта! Разве не ведомо мне, что на родине исцеляются все раны, нанесенные жизнью?
Он поделился с ним мыслями и сомнениями.
— Понимаю, — сказал серьезно моряк. — Но мне кажется, что, накопив такие обширные знания, вы вернетесь домой не без пользы. Что касается денежных средств, то советовал бы обратиться к графу Воронцову в Лондон. Он несомненно поможет.
Крузенштерн заговорил о своих планах. Его в Индии интересовало совсем другое, чем Лебедева. С интересом наблюдал он успехи Великобритании в мореплавании и морской торговле.