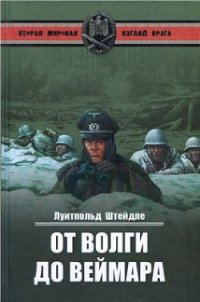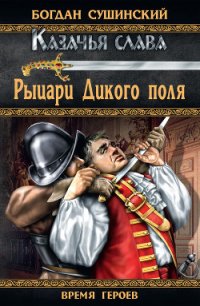Воевода Дикого поля - Агалаков Дмитрий Валентинович (книга бесплатный формат txt) 📗
После нашествия, с которым и Батыево на русские города не могло сравниться, господин Великий Новгород, переведенный в опричнину, навсегда обречен был стать лишь задворками Москвы, безропотным средним русским городком. А среди новгородцев, родившихся после этих страшных событий, через века пойдет поговорка: «По какой улице царь Иоанн проехал, там кура не поет».
Но это был не конец похода – еще стоял близкий к западным границам свободолюбивый город Псков! Он, прослышав о великом новгородском погроме, встретил царя распластавшись по полу, не поднимая головы и глаз, как представали пред очами золотоордынских ханов князьки иных земель. Въехав в открытые перед ним ворота, Иоанн увидел ломившиеся от яств трапезные столы, расставленные по всем улицам Пскова, и жителей, стоявших на коленях.
Прием так прием!
Старинный город Псков ограбили, но погрома, равного новгородскому, не учинили. Казнили на удивление немногих. Не было царю уже смысла ничего доказывать – он все доказал на берегу Волхова. Хотя, может быть, помог своему городу и юродивый Никола. Говорили, что, оставшись с царем наедине, Никола предложил Иоанну кусочек сырого мяса, а тот ответил: «Я – христианин, Божий человек, и в пост мяса не ем». А Никола ему в ответ: «Ты хуже делаешь! Ты, государь, человеческой плотью и кровью питаешься, забыв не только о посте, но и о Боге! Уходи из Пскова, иначе беда с тобой будет!» А тут еще и конь любимый царский возьми и сдохни. Юродивого Иоанн не тронул, из Пскова ушел.
Все, что хотел сказать миру Иоанн IV Васильевич, он сказал: он – царь и наместник Бога на земле, все остальные – рабы его бессловесные.
Но пока Иоанн разорял Псков, его воеводы отправились ставить на колени и грабить еще две крепости – Иван-город и Нарву. Чтобы не повадно им было на запад поглядывать, на вольности его!
После этого похода все северные русские земли были опустошены на годы вперед, они обезлюдели, а тем, кто остался жить на этих землях, уже в скором времени грозил голодомор.
Но царь еще не знал, какова будет кара Господня его азиатской Москве за эти побоища! И потому творил свое опричное дело дальше…
Если он насытился кровью там, в Новгороде, то возвращался уже голодным. И никак не хотел вспоминать напутственные слова духовника своего Сильвестра, сосланного в далекий Соловецкий монастырь. «Помни, государь мой, – говорил ему учитель, оскорбленный и отвергнутый, – кровопийство не утоляет жажды крови, но делает ее еще сильнее. Лютой страстью становится та жажда!»
А потому летом того же года, мучимый этой жаждой, решил он и москвичей еще разок на колени поставить. И предлог нашел – происки против государя и царства его надумал искоренить. Из теремов и домов посадских потащили опричники по доносам бояр и князей, дворян и купцов. Всех, окаянных, на пытки!
Но и самим опричникам пришло время трепетать!
Иоанн заподозрил в измене бывшего своего шурина – князя Михаила Темрюковича Черкасского, ходившего с царем во все карательные походы. Что мог сделать ему брат покойной Кученей, неизвестно, но для острастки кабардинского князя Иоанн приказал зарезать его шестнадцатилетнюю жену и полугодовалого ребенка и положить их трупы у красного крыльца княжеского терема. Но и этого ему показалось мало: вскоре он отослал Михаила Темрюковича охранять от крымцев южные границы, и уже там зарезали и самого Михаила, а воеводы отписали в Москву так: «Михайло Темрюкович, князь Черкасский, ехал из полку в полк и изгиб безвестно. И ныне ведома про него нет, где изгиб».
Это нелепое объяснение предоставили и кабардинскому князю Темрюку, самому влиятельному кавказскому вождю, потерявшему на Руси в течение двух лет дочь, сына и двух внуков. Смерть князя Черкасского полностью перечеркнула дружественные отношения между Кавказом и Русью, сделав их заклятыми врагами, а князь Темрюк без промедления вступил в военный союз с крымским ханом Девлет-Гиреем.
В те самые дни, когда из домов тащили для расправы знатных москвичей, столица узнала о том, что арестованы и первые из царских опричников – его сердечные исповедники, сотрапезники и верные спутники по куражам и оргиям. Да и вся опричная стая съежилась от одного только известия, что в темницу брошены Алексей и Федор Басмановы и Афанасий Вяземский, а ведь только ему, Афоне, царь позволял лекарствами себя поить! Огласили и обвинение: некий боярский сын Федор Ловчиков из свиты Вяземского донес, что хозяин его, а также отец и сын Басмановы новгородцев предупредили о царском походе. Смешно это прозвучало, но никто и не пикнул, никто из общих товарищей не заступился: все, точно горох, на пол оброненный, раскатились кто куда. И только один Малюта, Басмановский выдвиженец, смело царю в глаза смотрел.
– А ты веришь мне? – спросил у него Иоанн.
– Верю, государь! – ответил тот.
– А почему веришь?
– Потому что царь ты, и воля твоя – святая! – ответил Малюта. – Ты у меня да Господь! Вот и вся родня!
– И пытать их будешь – отца и сына, и Афоньку с ними? – глядя в глаза палачу, довольный, спросил Иоанн.
– Буду! – кивнул Малюта. – Жестоко буду пытать, коли попросишь! Жестоко и долго!
И сдержал слово – пытал. Но что могли сказать в свое оправдание три опричника? Разве что оболгать себя, когда под раскаленной решеткой, на которую их положили, палач в мясницком фартуке по приказу Малюты угли подгребал.
Но никто не знал, что было на самом деле. Трудная эта задача – в черное сердце государя заглянуть! Наблюдая, как распоясались в побиваемом Новгороде его друзья-товарищи, какими великанами себя увидели, Иоанн задумался. Так себя вели, точно и нет рядом с ними царя, точно простой сотрапезник он им. Вся страна его великая боялась, а вот они совсем страх потеряли! А ведь за ними и другие опричники могли на царя, как на равного, поглядеть, разве нет? Только позволь одному! Но его должны были все бояться: и враги, и друзья! Не мог он позволить хоть одному человеку в пределах своего царства быть сердцем свободным от страха и трепета перед государем, Богом ему посланным! И потому корчились на решетках трое опричников, двух из которых – отца и сына Басмановых – позже в своих сочинениях Андрей Курбский назовет так: «Федор – маньяк и губитель всей святорусской земли, Алексей – всех демонов воевода».
Они признались, во всем признались. И что новгородцев предупредить хотели, и псковичей, и в Литву податься, и с покойным Владимиром Старицким в соглашение супротив царя войти.
Всё подписали. Афанасий Вяземский к тому времени уже умер: его забили палками до смерти. Но окровавленным Алексею и Федору Басмановым, ползавшим, целовавшим царские сапоги, исступленно рыдавшим, в пыточной Иоанн сказал:
– Вдвоем я вас оставляю на эту ночь в каменной вашей темнице. Кого увижу завтра утром в живых, тот и дальше жить станет. А коли оба живы останетесь, то оба и умрете. Такое мое царское слово!
– Не заставляй губить друг друга! – ухватил его за сапог Алексей. – Батюшка! Батюшка! Не вводи в грех смертный!
Но Иоанн грубо пнул его.
– Боишься, Лешка, что сын поздоровее тебя окажется? – Усмехнулся: – И то верно: силы и гнева в нем уже поболе будет. – Взглянул на онемевшего Федора Басманова: – Не спать вам нынче, я так думаю. Бодрствовать! Только не тяните больно – я ведь слово свое сдержу: коли утром обоих живыми увижу – обоих и «отделаю»!
И он ушел. Среди ночи охранники услышали страшные крики и возню, а потом все смолкло. Утром, в окружении верных ему опричников, державших факела, освещавших дорогу в каменном тоннеле, в темницу возвращался царь. Открыли дверь, вошли Иоанн, за ним Малюта и несколько первых из его опричников. Осветили огнем каменный пятачок. В середине, в луже крови, лежал мертвый Алексей Басманов. Ожив в дальнем углу, встрепенулся Федор, подполз к царю, прижался губами к его сапогу.
– Все сделал, как ты сказал, царь мой батюшка! Все сделал! Отца родного за тебя не пожалел! Все сделал! Отпусти, отпусти…
– Неужто ты думаешь, Федька, – посмотрел на него сверху вниз Иоанн, – что доверюсь я человеку, загубившему отца родного? Неужто поверил? Малюта, кто твой лучший работник? – обернулся он к палачу-любимцу. – Кто лучше других головы сечет?