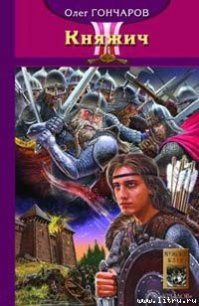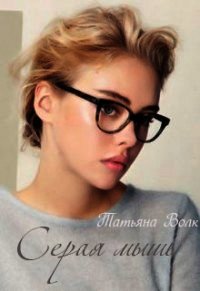Боярин - Гончаров Олег (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Наконец-то ослаб узел, неподатливая веревка послушной стала. Потянул ее на себя, осторожно распустил, мешок вверх поднял и понял, почему он все время молчал – во рту кляп забит – тряпка грязная.
Вырвал ее с трудом.
Он ртом задышал тяжело, а потом просипел простуженно:
– Руки развяжи… свело… сил никаких нет…
– Сейчас, – я ему за спину забежал, а там опять веревка.
– Мирослав! – кричу. – Бросай кобеля! Ножик тащи!
– У меня с собой, – мальчишка в ответ. – Я его на всякий случай взял, когда на стук выскочил. Забоялся, что могут лихие люди наведаться, – и здоровенный кухонный тесак мне протягивает.
– А Полкан?
– За калиткой он. Сюда не достанет.
– Хорошо, – говорю. – Справный ратник из тебя выйдет, коли сразу цену оружию понял, – а сам лезвием, да по веревке. – И ножик у тебя точеный.
– Я его об камень точу, – хвастает мальчишка, а сам с любопытством незнакомца разглядывает.
– Иди, Полкана попридержи, – говорю ему.
Шмыгнул Мирослав в калитку, на пса заругался, а я веревку на землю скинул, полонянина из пут высвободил, повернулся он ко мне, в глаза взглянул, словно впервые увидел, и сказал:
– Ну, здравствуй.
– Здрав будь, батюшка.
Обнялись мы накрепко, и показалось мне, что отец вроде как меньше ростом стал и в плечах поуже. А может, это я вырос?
Застонал он от моих объятий.
– Что такое? – выпустил я его.
– Рука же у меня. Рана старая расшалилась. Ты уж не обессудь, сынко.
– Что ты, что ты…
– Какой же ты у меня большой стал, – оглядел меня батюшка.
Постояли мы растерянно. Сколько всего мне ему сказать хотелось. Сколько раз мечтал о том, как свидимся. И вот надо же… стоим, и все слова в одночасье подевались куда-то…
– Полкан! На место! – закричал Мирослав.
Но не послушался пес мальчонку, в калитку грудью стукнулся, распахнул ее настежь, на волю вырвался, тявкнул сердито и к нам бросился.
– Батюшка, – шепнул я. – Ты только не дергайся. Он у нас чужих больно не любит. Его на сторожу натаскивали. Он днем на цепи сидит, а по ночам мы его отпускаем, чтоб подворье оберегал.
Остановился Полкан в двух шагах от отца, зубы оскалил и зарычал с угрозой.
– Ну? – сказал отец. – Ты чего обозлился, дурила? Али своих не признаешь? Иди… иди сюда, – и на корточки перед псом присел.
Полкан от такой наглости опешил. Перестал зубы щерить, постоял немного, а потом хвостом завилял, голову к земле опустил, к отцу подошел боязливо, носом в колено ткнулся.
– Вот и умница, – сказал батюшка и здоровой рукой псу за ухом почесал. – А то страху на всех нагоняешь. Ну? Чего ты?
И Полкан морду поднял и отца в лицо лизнул.
– Признал, – сказал я радостно.
А тут и солнышко из-за окоема красный бочок показало. Новый день в мир пришел.
– Пойдем-ка, батюшка, в дом. Там уж нас заждались небось.
Долгих одиннадцать лет мы не виделись. По-разному я нашу встречу представлял, но жизнь все по-своему выкручивает. Помнится – меня потрясло тогда, как спокойно отец унижение над собой принял. Стоял он перед домом моим с мешком на голове, с кляпом во рту, с руками, за спиной стянутыми, и даже вырваться не попытался. А когда я его освободил, он как ни в чем не бывало с Полканом стал дружбу налаживать, а меня словно и не было рядом. Странные штуки с нами Пряхи вытворяют. Обламывают и спесь, и гордыню, будто сухие ветки на сосне вековой. И забияка смирным делается, а скромник на самой вершине славы оказывается.
Ломает нас жизнь, и не знаешь даже, к лучшему это или к худшему. Надеюсь, что все же к лучшему, а иначе и жить не стоит.
Ох, отец…
Считай, месяц пролетел, а батюшка все от полона отойти не может. Тихий он какой-то, будто болезнь его страшная гложет, и названия этому недугу не придумали еще. И все ему так, и любая снедь, даже простая самая, для него словно яство изысканное. Куропать ему даешь, так он всю до крылышка съест, даже косточки разгрызет. Крошки хлебные все до одной со стола на ладошку смахнет и в рот себе кинет, и жует долго-долго. И все зубы на месте, а он все одно как щербатый. За любую малость Любаве кланяться начинает, да так усердно, что ей даже неловко становится. А потом на улицу осторожно выйдет, где-нибудь во дворе уголочек поукромней найдет, забьется туда, от глаз людских спрячется и сидит целый день – и не видно его, и не слышно.
Со мной и Малушей он тоже странно себя повел. Сестренка-то как только узнала, что отца отпустили и он у меня на подворье остановился, сразу же с Горы в Козары спустилась, к нам прибежала.
– Где он? – у меня спрашивает.
– Вон там, – говорю, – в садочке, за одриной [91] хоронится.
– Почему хоронится? – удивилась она.
– А ты у него сама спроси.
Бросилась она в сад, отыскала его, на колени упала, ноги ему обняла.
– Батюшка, – причитать начала. – Батюшка мой. Как же я соскучилась по тебе! Батюшка мой!
А он ей ладошкой по волосам провел, улыбнулся виновато.
– Здравствуй, дочка, – сказал.
И все.
И ни слова, и ни полслова больше.
В себя ушел, будто улитка в раковину, и ничего вокруг не замечает. Глаза у него открыты, а словно спит. То ли в думы свои погружен глубоко, то ли на нас за что-то обижается?
Малушка и так вокруг него, и эдак, а он в ответ ни гу-гу.
– Ой, Добрынюшка, – заревела она в голос, – так чего же это с ним?
– А чего же ты хотела, сестра? – обнял я ее, к груди прижал. – Он же десять лет в одиночестве. Охранникам с ним под страхом смерти разговаривать запретили, оттого он, наверное, собак с кошками сейчас лучше, чем людей, понимает. Вон, Мурка вокруг него так и вьется, а Полкан, уж на что зверина лютый, и тот ему руки лижет.
– И надолго это, Добрынюшка?
– Любава сказала, что у него душа трещину дала. Может, со временем рана затянется, а может, так на всю жизнь батюшка наш надломленным останется. Как знать?
И Загляда несколько раз заходила, чтобы со своим бывшим хозяином повидаться, так отец ее и вовсе не признал.
– Я же Домовитова дочка, – говорила она ему. – Домовит у тебя, княже, в ключниках ходил, а я в сенных в детинце росла. Или не помнишь?
Но он лишь головой мотал да глаза в сторону отводил.
А вчера вечером, мы уж спать ложиться собрались, мне Любава сказала тихонько:
– Ты во зло мои слова не прими.
– Что случилось-то? – спросил я и зевнул с устатку.
– Знаешь, а ведь батюшка твой снедь со стола таскает, – она взглянула на меня виновато. – Не обижайся только, но я должна была тебе это сказать.
Понимал я, что Любава это мне от чистого сердца сказала. Видел, что у нее за отца душа не менее моего болит, но все равно оскорбился. Ничего я ей на это не сказал, лег в постель, отвернулся, прикинулся, что уснул, а сам почти до полуночи глаз сомкнуть не мог. И жена тоже не спала, с боку на бок ворочалась и вздыхала тяжко. Потом не выдержала, обняла меня.
– Прости меня, дурочку, – говорит. – Не нужно мне было… неужто решил, что я пожадала?
– Нет, конечно, – ответил я ей. – Просто почему-то больно мне стало.
На следующее утро заметил я, как отец четвертушку хлебную со стола смахнул и незаметно под подол рубахи запрятал. После этого встал, раскланялся, как обычно, за хлеб-соль Любаву поблагодарил и на двор заспешил. Я за ним. Он в садик, на местечко свое любимое пробрался, у одрины присел, землицу на сторону сгреб, а под ней досочка. Он доску приподнял, из-под нее котомку достал и в нее кусок каравая спрятал, оглянулся воровато и котомку обратно укладывать стал.
А мне стыдно сделалось. Почуял, как кровь к щекам прилила, и сердце заныло тоскливо.
– Зачем же ты так, батюшка? – вышел я из-за угла одрины.
Взвился он, точно ужаленный, на ноги вскочил, руку больную к груди прижал, а вторую перед собой выставил, во взгляде решимость и холод яростный. Понял, что это я, сник сразу, на землю опустился, котомку подхватил и мне кинул:
91
Одрина – большой хлев (сарай).