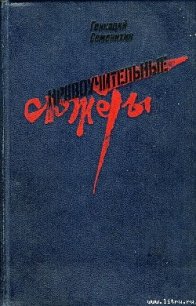Полонянин - Гончаров Олег (книга жизни TXT) 📗
– Ты бы лучше не его, а Параскеву за главную в Карачарах оставил.
– Я бы лучше тебя оставил, – ответил послуху Григорий. – Ты бы там быстро порядок навел.
– Не-е, – помотал головой жердяй. – Не остался бы я там. Надоело на месте сидеть. Ты-то вон Мир поглядел, а мне тоже хочется, – сказал он Григорию, повернулся ко мне и пояснил: – Я же малым был совсем, когда мы к муромам пришли. Дорогу и вовсе не помню.
Все лес да лес. И потом безвылазно в деревеньке рос. Да все сказки слушал, как учитель по странам дальним и близким со своим наставником шатались. И мечталось мне, как я вырасту и на Мир взглянуть пойду. Вырос вот. И в путь с вами напросился. А толку что? Сколь уж дней идем, а я ничего, кроме елок да берез, не видел.
– Ну, это поправимо, – рассмеялся я. – Скоро леса сосновые пойдут. Потом в тех лесах веси охотничьи встречаться станут. Потом деревеньки небольшие. Вот до Девяти Дубов доберемся, я вас с Соловьем сведу. В баньке попаримся. Груздей моченых у хоробра отведаем. Хороши у него грузди. Во-о-от такие, – показал я руками, какими грибищами нас витязь угощать будет. – Вкусные…
– Погоди, Добрын, чадо несмышленое чревоугодием совращать, – настороженно проговорил Григорий. – Как бы нам самим на ужин кому-нибудь не попасть.
– С чего это вдруг? – удивленно взглянул на учителя Никифор.
– А ты разве не слышал?
– Нет…
– Тише! – еще больше насторожился Григорий. – Вот опять!
Притихли мы. Прислушались. Где-то далеко, едва различимо, я услышал странный, с детства раннего ненавистный звук.
– Никак волк, – прошептал послух и перекрестился.
– И не один, – тихо сказал Григорий.
– А может, это волкулак давешний? – Никифор даже плечами передернул.
– Сколько раз говорить тебе, что Баян человек обычный…
– Тихо! – Григорий рукой махнул. – Вроде ближе завыл.
– Точно, – послух поежился и снова перекрестился.
И словно в подтверждение наших опасений испуганно заржал мой конь.
– И Буланый их почуял. – Я невольно положил руку на навершие кривого булгарского меча.
– Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, – пробасил Никифор. – А может, почудилось? – с надеждой взглянул он на учителя.
– Спаси и сохрани нас, Иисусе Христе, – сказал Григорий.
Выбрались мы из шалаша. Вслушались в лесную морозную тишину. Нет, не померещилось нам. Точно волки воют.
Я, как смог, успокоил Буланого. По храпу его погладил.
– Тише, миленький. Не бойся.
Но не послушал меня конь. Мотнул головой, из рук моих вырываться стал. Заржал громче прежнего на нашу беду. И тут новый вой раздался. С другой стороны.
– Все, – сказал Григорий. – Обкладывают они нас. Видно, конягу твою на нюх поймали.
– Так ведь рано еще волкам голодовать, – Никифор все пытался беду стороной пустить. – Они же обычно ближе к весне шалить начинают. К жилью людскому с голодухи прут.
– Так-то оно так, однако же на этот раз не они к нам, а мы к ним приперлись, – сказал я. – Лес – это их вотчина, а тут мы, словно снедь на блюде.
– Что делать-то будем? – совсем Никифор застращался.
– Ты же хотел Мир поглядеть? – попытался пошутить Григорий. – Теперь знать будешь, что сказки иногда злом оборачиваются.
Теперь вой раздался справа от нас. Совсем близко. Кругом нас стая обходить начала.
– Ты смотри, что творят, – сказал Григорий. – Никифор! – крикнул он строго. – Раздирай шалаш да костер поярче разводи. Может, они огня-то поостерегутся.
– Может, и пронесет, – ответил я, едва смиряя коня.
– Ты его к березе вяжи! – крикнул Никифор. – Руками-то не сдержишь.
– Нельзя, – отмахнулся я от послуха. – Они его тогда точно порвут.
А Буланый все старается вырваться и унестись подальше от навалившейся напасти. От ужаса нежданного. Глаз у него бешеный; конь хрипит, все на дыбы подняться пытается, узду из рук моих рвет и не понимает, дурачина, что волкам только того и надобно. В лесу они его быстро на потраву пустят.
– Добрый, – это уже Григорий. – Парень прав. Не удержишь ты коня в руках. Он тебя за собой уволочет. Привязывай давай. А мы уж постараемся до горла конского волков не допустить.
Перекинул я ошлепок [95] через сук. Накрепко узел затянул.
– Потерпи, коник, – шепнул Буланому. – Ты только не рвись сильно.
И вдруг поймал себя на том, что, не задумываясь, исполнил повеление христианина. Видно, и вправду было в нем что-то, что заставляло людей верить в него в самые тяжелые минуты. Но больше об этом раздумывать уже было некогда.
– Вот они! – взвизгнул Никифор.
И мне почудилось, что неясная тень мелькнула на краю полянки. Вспыхнул огонек волчьих глаз и пропал. И неясно, то ли вправду волки к поляне подошли, то ли это морок от огня распаленного.
– Вон еще один! – Григорий спокойно вытащил из-за пояса нож.
– И ты держи! – крикнул я жердяю.
Свой кинжал, Претичем в Вышгороде подаренный, послуху протянул.
– А ты как же?
– Дурила, – невольно улыбнулся я. – У меня же меч.
– О Господи! – жердяй уже забыл про меня.
Он таращился в темень бора, стараясь разглядеть опасность.
– Я трех насчитал, – услышал я голос Григория. – Нет! Четырех!
– Да где же они?! Где?!
– Успокойся, Никифор, – сказал Григорий. – На все воля Божья.
– Господи, спаси! Господи, спаси!
– Ты же ножом крестишься!
– О Господи!
Они вышли на поляну…
Шесть волков…
По двое на каждого…
И холодным ужасом вернулся почти забытый детский страх. Точно ждал он своего, таился где-то в глубине естества, чтобы теперь выползти наружу. Склизкой змеей прополз по хребту. Липким комком к горлу подкатил. Пауком мерзким сети свои на меня накинул. Замер в ожидании того, что жертва трепыхаться вот-вот начнет. Вот тогда он и распотешится. Ядом бессилия и немощи меня напитает. Вновь ручейком горячим по ноге пробежит…
И все.
Был человек и кончился.
Превратился в жертву безропотную.
Жутью придавленный, сам под волчьи зубы шею подставил.
Тут колено предательски дрогнуло. Из оцепенения меня выдернуло. И вдруг промелькнуло в памяти, словно видение: подвис я между землей и небушком, а внизу на Конь-камне тело мое распластанное, вокруг ведьма простоволосая через костры скачет, а за ней страхи мои увиваются. Лишь один страх из меня выходить не хочет. И у напасти этой глаза желтые. Волчьи глаза. Недобрые.
– Придется тебе, княжич, самому со своим страхом бороться, – сказала мне тогда Берисава.
Вот и пришел тот день, когда либо я его, либо он меня. А на кошт – жизнь…
– Добрын. Слышь, Добрын, – шепнул Григорий. – К костру отходи. Только тихонечко. На огонь они вряд ли полезут.
– Погоди отходить, – я ему в ответ, а сам от волчьих глаз взгляд отвести не могу. – Они наш отход за слабину примут.
Стоят волки.
Затаились.
Ждут.
И мы стоим.
А вокруг тишина звенящая. Замерло все. Даже Буланый мой притих. Только слышно, как ветки в костре шипят. Паром исходят.
Тут они разом ощерились. Зубы свои вострые показали. Рычат, а сами хвосты жмут. Видно, понимают, что мы так просто сдаваться не собираемся. На холках у них шерсть дыбом поднялась, но напасть все решиться не могут.
А я чую, как у меня все жилы струной натянулись. Хоть играй на них и песню пой. Только грустной больно эта песня получится. Ведь у Марены веселых песен не бывает.
Ветки в костре шипеть перестали. Просохли, видать, нам на горе. Громко треснула одна. И тотчас же Буланый заржал да с привязи своей рванулся. И в единый миг лопнула струна. Жажда крови горячей в волках сильнее страха оказалась. Кинулись они. И завертелось все.
Их жажда крови, моя жажда жизни. И бояться стало некогда.
Я по первому мечом рубанул. По хребту целился. Не попал. Извернулся он, прыгнул, лапами мне в грудь ударил. Только зубы клацнули. Я и понять не успел: у него или у меня? Отлетел я назад. На спину упал, кутырнулся через плечо, встать хотел, но какое там. Вцепился серый в меня, на руке повис. Завопил я от боли, когда его клыки мне кожу вспороли. Спасибо Параскеве. Она меня в дорогу снаряжала. Тулупчик овчинный толстый. Если бы не он, лопнули бы кости и остался бы я без руки.
95
Ошлепок – ременный конец на поводе уздечки.