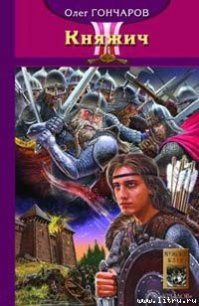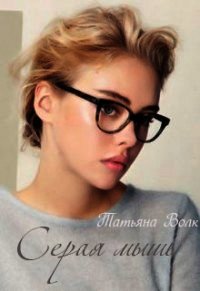Боярин - Гончаров Олег (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
– Видишь, Любавушка, какая она у нас тихоня, из светелки своей не выходит совсем, лишь с Малушей дружбу водит, а остальных чурается, – сказала Ольга. – Не бойся, никто тебя кусать не собирается, проходи сюда.
– Иду, маменька, – и Преслава сделала несколько робких шажков по горнице.
Подошла к ней Любава, оглядела с ног до головы, ладонь на живот молодой княжне положила. Преслава сперва отстраниться хотела, но увидела, что Ольга кивнула ей одобрительно, и позволила жене моей себя ощупать.
– Что ж ты худющая такая, девонька моя? – улыбнулась Любава.
Ничего ей Преслава не ответила, лишь покраснела густо.
– Ничего, – сказала Ольга, – подкормим. Лишь бы у нее все хорошо было.
– Это мы постараемся, – Любава поманила княжну к столу. – Давай-ка сюда, Преславушка. Скидывай телогрею*, она тебе сейчас помехой будет.
* Телогрея – женское платье, застегнутое донизу на 16 пуговиц, рукава длинные, с проймами, по подолу телогреи пришивалась опушка. Телогреи были зимние и летние.
– Да как же это? – Преслава еще сильней покраснела да на меня взглянула украдкой.
– Ты Добрына не стесняйся. Он и не такое видел, – усмехнулась Ольга.
– И то не испугался, – добавила Любава и княгине Киевской подмигнула многозначительно.
Тут и мне черед смутиться пришел.
– Ох, и язва ты, Любава, – рассмеялась Ольга. – Малуша, помоги с княжны покровы снять.
Сняли с Преславы плат бабий, потом косынку шелковую, одежи просторные, жемчугом расшитые, через голову стянули, рубаху красную спустили, и увидел я, что права Любава – рано еще этой девочке худенькой о материнстве думать. Ей бы самой возле мамкиного подола подрастать, а она уже мужнина жена. И не верится теперь, что мы с Любавой такими же были, когда впервые на сеновале у отца ее, Микулы-огнищанина, нас любовь закружила.
– Чего глаза-то вытаращил? – шепнула мне Любава.
И верно. Стою, как дурак какой-то, ворона охоляпил – едва не придушил совсем, а передо мной девчонка телешом от холода ежится. Даже неловко стало.
– Залазь на стол, – жена княжной распоряжается. – Да на спину укладывайся. Замерзла?
– Да, – кивнула Преслава и на столешницу вскарабкалась, промеж мешка с просом и вороном.
– Потерпи немного, вскорости тебе жарко станет.
Любава яичко подхватила, перед носом вороньим закрутила его волчком, над птицей нагнулась и зашептала что-то быстро-быстро. Ворон в моих руках затих, прижался грудью к столешне и затрясся мелко, будто озяб. Вертится яйцо белое, уставилась на него птица черная, даже глаза мигать перестали.
– Отпускай, Добрыня, – жена мне тихонечко.
Я пальцы разжал, а ворон сидит и не шелохнется. Смотрю: у Любавы уже нож в руках.
– Посторонись, – говорит.
Схватила птицу за голову и острием ей в глаза быстро сунула. Ослеп ворон в один миг, но словно и не заметил этого – сидит, будто завороженный, и клювом не ведет, только кровь по перьям потекла.
– Отойди подальше, – велит мне жена.
Я в уголочек горницы отошел, к двери поближе, и посмотреть решил, что же дальше будет.
А Любава знаки странные лезвием ножа на полу вырисовывает.
– Становитесь вокруг стола, – велела она Ольге с Малушкой, – да чтобы тихо было.
Как только княгиня с сестренкой исполнили ее повеление, Любава сняла с себя платно, распустила волосы, нож в сторонку отложила, яйцо в ладошке зажала, закрыла глаза и принялась крутиться волчком, выкрикивая какие-то непонятные слова. Затем она резко остановилась, подняла над головой яйцо и взвыла утробным голосом:
– Мать-Рожаница-а-а! К тебе взываю-у-у-у! – И я почувствовал, как холодок у меня пробежал по спине.
Вспомнилась мне лесная поляна, Конь-камень и Берисава – Любавина матушка, которая так же призывала себе в помощь древнюю, как сама Земля, силу.
– Мать-Рожаница-а-а! Приди к дщери своей! – И тут почудилось мне, что ветер пробежал по горнице, тугим клубком свился вокруг Любавы и завертелся над ее головой невидимым смерчем.
Я взглянул на княгиню. У Ольги появился странный блеск в глазах, она словно выпала из Яви и теперь стояла, отрешенно глядя в пустоту. Малушка выглядела не лучше. Сестренка облизнула внезапно пересохшие губы и вцепилась пальцами в край стола. Было видно, как в ней борется страх с любопытством и невиданная сила все настойчивей захватывает ее в плен.
– Мать-Рожаница. Я во власти твоей, – тихо сказала Любава.
– Господи, Иисусе Христе… – прошептала княгиня.
– Или Бога твоего не мать родила?! – Голос Любавы показался мне чужим – глубоким, красивым и властным.
– Мама… мамочка…
«Это Малуша», – отметил я про себя, понимая, что сам остаюсь вне этого наваждения, словно наблюдая за происходящим сквозь призрачную, тонкую, но непреодолимую стену.
– Здесь я. Здесь, доченька.
Пот холодный меня прошиб. Я не мог ошибиться. Сестренка еще маленькой была, но я помню… я готов руку на отсечение отдать… это был голос моей матери.
Слеза покатилась по щеке, а я даже вытереть ее не мог, руки тяжестью налились, страх великий до самых костей проморозил, и захотелось мне сбежать подальше от этого места.
– Мамочка… – Малуша всем телом подалась вперед, и на миг показалось, что она сейчас опрокинет стол и бросится в объятия матери.
– Тише, доченька. Все у тебя хорошо будет, – сказала Любава голосом Беляны, княгини Древлянской, голосом моей матери. – И все, что задумано, исполнится, только ждать надо. Ждать, терпеть и верить.
– Да, мамочка, да, – сестренка радостно закивала и успокоилась.
Тут уж и я не стерпел.
– Матушка, – позвал я ее. – Матушка моя.
Любава разволновалась вдруг, взглядом по горнице меня выискивает. Заметила наконец.
– Каким ты большим стал, Добрынюшка, – голосом матушки ко мне обратилась. – Как на отца похож.
А ворон на столе встрепенулся да как загорланит сердито. Крылами захлопал и Преславу в щеку клюнул.
– Ой! – вскрикнула княжна.
А жена на меня руками замахала:
– Уходи, сынок, поскорей. Нельзя тебе здесь. Вон, видишь, как Кощей ругается. Мать-Рожаница нас защитит, а тебя костлявый не помилует.
– Матушка…
– Уходи! А Малу передай, чтоб мысли дурные из головы выкинул…
Хотелось мне через Любаву с матерью побеседовать. О своем житье-бытье поведать. Про жизнь мою, про жену, про отца рассказать, но, видимо, не судьба.
– Прости, Господи Иисусе, мою душу грешную, – услышал я княгиню, когда тихонечко к двери отступал.
И, уже уходя, заметил, как Любава ворона обезглавила и кровью его стала Преславу обмазывать.
– Что там у них деется? – спросил меня гридень, когда я дверь за собой поплотнее прикрыл.
– Там дела государственные решаются, – ответил я воину. – Княгиня велела никого не пускать.
Долго мне пришлось жену дожидаться. Вышел я из терема, у крыльца постоял, а потом на конюшню заглянул. С Кветаном повидался, за жизнь поговорили, хмельного откушали, а я все никак от увиденного и услышанного в горнице княжеской отойти не мог. Через Любаву с матушкой через столько лет свиделся. Такое сразу не отпускает – и жуть берет, и на сердце радостно. А еще слова матушкины меня встревожили. Об отце она пеклась. Как домой вернемся, я с ним поговорю. Понять он должен, что одиннадцать лет минуло со дня позора нашего, переменилось многое, и старые обиды позабыть пора. Нельзя вперед идти, коли прошлое на ногах гирей пудовой висит. Думал я так, чарку со старшим конюшим за процветание Земли русской поднимая, и не знал в тот миг, что с отцом разговор этот отложить придется.
Любава из терема выбралась чуть жива. По всему видно, что устала смертельно. Я ее под руку подхватить успел, а то бы упала без сил.
– Пойдем, Добрынюшка, до дома, – устало сказала она. – Мне отлежаться надобно.
– Как там?
– Тебе княгиня в дорогу собираться велела. Завтра с утра в Чернигов выезжай, весть Святославу неси, что будет у него наследник.