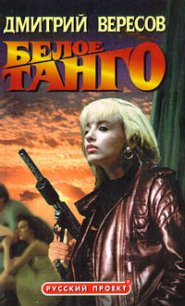Красная Валькирия - Раскина Елена Юрьевна (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .TXT) 📗
- Стоит ли? - честно спросил Федор. - Зачем это?
- Приходи сегодня же - и не раздумывай. - отрезала Екатерина Александровна. - Раньше к Ларочке было трудно пройти, врачи не пускали, боялись за ее здоровье. А сейчас ничего - пускают...
- Хотелось бы верить, это потому, что Лара выздоравливает, - не совсем уверенно проговорил Раскольников.
- Куда там... Хуже! Каждый день все хуже ... - зарыдала бывшая теща.
- Тогда почему посетителей пускать стали? - поинтересовался Раскольников, хотя сам догадывался, почему.
- Такая она им не страшна... - прошептала ему на ухо Екатерина Александровна.
Отправляясь к Ларисе, он не мог стряхнуть с себя странное оцепенение, почти безразличие. Но, как только Федор увидел ее, все перевернулось. Бледная, слабая, смертельно исхудавшая, с потускневшими, жидкими волосами, такая маленькая и беспомощная под огромным одеялом. Рядом - мать и какой-то мальчишка, по привычкам - бывший беспризорник, но Раскольников едва заметил их. Врезалось в память то, с какой трогательной нежностью цеплялся за ее восковую руку этот шмыгающий носом мальчишка. Он понял: Лара по-прежнему - самая любимая и главная в жизни женщина, хоть и уже не нужная. Однако теперь уместнее употребить форму: "была". Быть ей оставалось недолго.
Одно хорошо - в маленькой палате не было других больных. По нынешним временам понятно, каких "больных" можно было ожидать рядом с товарищей Рейснер. Значит, ее списали со счетов. Впрочем, непременно войдут "доктора" или "медсетры", и очень скоро - соглядатаев здесь много, и в белых халатах, и без! Говорить нужно быстро и тихо.
- Здравствуй, Лебеденочек, - просто сказал он и прикоснулся товарищеским рукопожатием к ее бессильной руке. - Надо же, вот и увиделись. Сколько лет не звала, а тут...
- Мама, Алеша, - сонным, непослушным голосом попросила Лариса. - Выйдите, прошу вас, нам с Федей поговорить надо.
Это ласковое "Федя" прозвучало так внезапно! Раскольников неожиданно для себя поднес к губам ее руку, которую собирался лишь товарищески пожать. Сам не понял - что случилось, почему так предательски дрогнуло его сердце: он ведь в былые годы рук женщинам никогда не целовал, только губы и все остальное! Но в эту минуту старорежимный жест оказался вдруг единственно уместным. И она рада, улыбается...
Когда вышли мальчишка с матерью, Лариса, резиново улыбаясь бескровными тонкими губами, сказала Федору:
- А знаешь, таким я бы смогла тебя полюбить...
- Каким - таким?
- Ты помягчал, Федя... Ты уже не такой, как раньше!
- Это, наверное, потому, Лара, что я нынче не боевые корабли вожу, а поставлен партией у литературного штурвала, так сказать. - попытался пошутить он. - Крови больше не лью, только чернила. Но и здесь размягчаться не время. На литературном фронте борьба тоже кипит! Много, видишь ли, разной публики, "попутчики", иначе не скажешь! Безыдейные писаки... Боремся с ними строжайшей партийной цензурой.
- С кем теперь бороться, Федя? - со странной, снисходительно-сочувственной улыбкой спросила Лариса. Ее слова доносились как будто из иного мира, он вслушивался в них, как в откровение. Сейчас он наконец верил ей - каждому слову!
- Ты ведь и сама с такими боролась, Лара! - вяло попытался возразить Федор. - Явно они с нами, а тайно... Михаил Булгаков, к примеру. Написал же он пьесу про киевских золотопогонников! Ты же помнишь, "Дни Турбиных"... Возмутительно, что ее допустили к постановке не где-нибудь, а в Художественном театре! Теперь там на сцене "Боже, царя храни!" поют, двурушники, а публика ради этого ходит! Видишь ли, Ларисонька, такие безобразия не прекратить одними запретительными мерами, как предлагают некоторые... Нужен пример подлинно революционной драматургии! С поэзией чуть лучше дело обстоит, там ведь товарищ Маяковский, и не он один... А пьесы я сам теперь буду писать, не хуже Гумилева, поверь!
- Федя, я прошу тебя, оставь в покое и Гумилева, и Булгакова! - попросила Лариса. - Мне уже не нужно ничего доказывать, я скоро умру, а тебе жить...
- Не говори так, Лебеденочек, верь: ты не умрешь! - Федор снова совершил небывалое: встал на колени у ее кровати и припал губами к слабым, усталым рукам Лары. - Я не дам тебе умереть! Не оставлю тебя, ты слышишь! И для начала заберу тебя отсюда, родная. Так что не говори о смерти больше. Борись!
Он помолчал, мучительно соображая, какие еще слова будут сейчас уместны, а потом сказал как-то удивительно спокойно и просто:
- Хочешь, я тебе стихи почитаю? Даже твоего Гафиза... Знаешь, я прочел его стихи в Кабуле, когда ты уехала... У него хорошие стихи, крепкие! "Приглашение в путешествие", например. Или "Индюк"... Несмотря на забавное название, как раз про нас! "Уедем, бросим край докучный и каменные города, где вам и холодно, и скучно, и даже страшно иногда....". Это он, наверное, для тебя написал? Удивительно, я уже не ревную... Ты только выздоравливай, милая! И прости меня, сама знаешь за что... Привел я его под чекистские пули, каюсь. Не стану говорить, что от любви к тебе. Любовь не должна убивать! От ревности и от злобы... Жаль!
- Гафиза все равно бы арестовали... - по-ангельски отрешенно улыбнулась Лара. - Дело совсем не в тебе, Федор. Он был противником нашей революции... Я и сама теперь ее противник - но поздно... На смертном одре можно каяться, все равно уже ничего не исправишь!
- Спасибо, Лара. Скажи мне, только одно скажи...
- Что сказать, Федя?
- Ты любила меня - хоть когда-нибудь? Хоть в ту ночь, когда я после "Крестов" в горячке лежал, а ты за меня выводить "Аврору" пошла? Тогда - любила?!
В голосе Федора прозвучала такая несвойственная ему безнадежная мольба, и такая, вопреки всему, нежность, что Лариса взяла на душу еще один грех, солгала:
- Тогда любила, Федя...
Он снова прикоснулся губами к ее руке, на сей раз едва заметно, церемониально:
- Спасибо, Лара. Знаю, что врешь, мой ангел, - но все равно, спасибо. Я знаю больше: сейчас ты меня любишь. Как брата. А мне сейчас другого уже не надо.
- Я хотела тебя с днем рожденья поздравить и попрощаться. Помню, что нельзя заранее поздравлять. Но вовремя я могу не успеть...
Он судорожно закашлялся. То ли от скверных советских папирос, то ли из неплотно закрытого окна подуло, но в горле - комок.
- Обязательно успеешь, Лебеденочек, ведь всего несколько дней осталось. Я тогда к тебе снова приду!
- Я не успею, Федя. Ты не приходи: я в этот день умру. Я знаю... Послушай, я хотела попросить ...
- О чем, Лебеденочек?
- Позаботься о моих - отце, матери, Алеше. Не допусти, чтобы Алешу - в детдом! Забери Алешу к себе - и беги!
- Куда бежать, Лара?
- Куда угодно... Из страны. Наше время прошло... Тебя могут арестовать. Не дай им этого! Беги! С Алешей...
- Я и сам собираюсь уехать, Лара, - прошептал ей на ухо Раскольников. - Добиваюсь дипломатического назначения. Хотя сама знаешь, какой из меня посол? Но тебя я не оставлю и буду рядом с тобой... Пока ты дышишь!
- Я постараюсь недолго, Федя... Хочу, чтобы ты успел... Успел уехать... Помни о мальчике!
- Обещаю, - решительно сказал Федор, - но сейчас я тебя не оставлю. Это не обсуждается. Не забывай, Ларочка, ты мой бывший флаг-секретарь. Поэтому, слушай приказ: верить мне и спать!
- Слушаюсь, - на удивление легко согласилась Лариса и, кажется, в ее угасающих глазах даже промелькнула последняя веселая и нежная искорка. Говорить ей было тяжело, веки стали тяжелыми, как мельничные жернова. - В день рожденья свой приходи. Я засну. Я в последние дни много сплю... И днем, и ночью... Скоро и вовсе усну - навсегда. Ты только маму и Алешу позови...
Она устало закрыла глаза, сладко улыбнулась во сне... Раскольников нежно провел ладонью по ее тусклым, безжизненным волосам. Лариса все так же безмятежно улыбалась. Раскольников вышел в коридор: слава Богу, стукачей под дверью не оказалось! Сейчас - расшиб бы, и будь что будет! Вернее, заткнул бы пасть, дабы "оно" не верещало, дотащил бы до сортира, чтобы не разбудить Ларочку, и расшиб бы там!