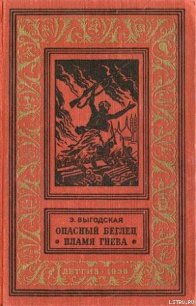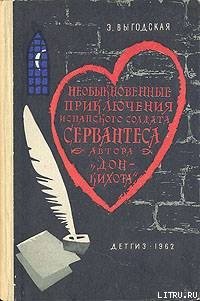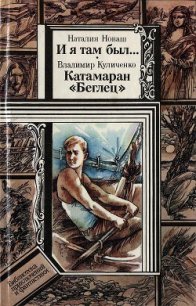Опасный беглец. Пламя гнева - Выгодская Эмма Иосифовна (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
Пароход уходил в два часа дня. Семья разлучалась. Эвердина с маленьким Эдвардом и маленькой Эвердиной уезжали. Эдвард большой оставался в номере, залогом для хозяина.
День был свежий и бессолнечный. Эвердина села с детьми на палубе. Она взяла у няньки девочку. Не отрываясь, она глядела на сумрачную воду.
— Ваши билеты? — подошёл к ней контролёр.
Не поворачивая лица, Эвердина достала свою дорожную сумку. Она раскрыла сумку, и лицо её выразило удивление. Она порылась в ней и испуганно вскочила.
— Я потеряла билеты! — сказал Эвердина.
— Придётся, мефрау, купить другие, — вежливо сказал контролёр.
Маленькая Эвердина испуганно заплакала.
— У меня пропало всё, — сказала Эвердина, — билеты, деньги, всё. У меня выпал кошелёк из сумки!
На них смотрели. Бледная дама с двумя детьми, необыкновенная коричневая нянька в широкой узорчатой юбке… Ни билетов, ни денег…
Контролёр колебался. Дама была прилично одета.
— Я пойду к капитану, — сказал контролёр.
Пассажиры смотрели с любопытством: высадят на берег эту даму с двумя детьми или не высадят?
— Если мефрау обещает заплатить за билеты в Роттердаме, можно оставить, — распорядился капитан.
— Я заплачу, — сказала Эвердина.
Она не спустилась вниз, в каюту. Она осталась с детьми на палубе, под холодным ветром.
В Роттердаме у Эвердины не было никого: ни родных, ни знакомых. Случайно она помнила название одного трактира — «Серебряная сельдь». Эдвард как-то останавливался в «Серебряной сельди» и очень хвалил хозяина.
Берега Голландии поворачивались перед нею, каналы в низких оградах, тучные зелёные луга, кирпичные мельницы с тёмными, медленно машущими крыльями…
— Мама, отчего здесь пальмы такие некрасивые, неровные, мохнатые? — спрашивал маленький Эдвард.
— Это не пальмы, Эду, это сосны, — отвечала Эвердина.
Они и к вечеру не спустились вниз, в каюту. Все остались до утра на палубе. Эвердина укутала детей.
«Что с ними будет в Роттердаме? И как они из Роттердама доберутся до Гааги?…»
Ветер дул с моря непрерывной настойчивой струёй, продувал насквозь мантилью и платье, студил открытую голову.
У Генриетты в Гааге, должно быть, покойный, богато убранный дом, с гостиной, с дубовой столовой, с высоким голландским изразцовым камином, с половиками у входа. И паркетные шашечные полы натёрты так, как умеют натирать только в Голландии; и горничная у парадной двери просит приходящих вытирать ноги, потому что в доме чисто, как только может быть чисто в голландском доме…
И у них с Эдвардом был на Яве свой спокойный дом, они мирно жили и помогали всякому, кто приходил к ним за помощью, и делали людям много добра. Эдвард был безумен. Разве яванцам легче стало от того, что они так скитаются сейчас?…
— Мама, отчего здесь так холодно? — плакал маленький Эду.
— Здесь север, детка.
— Мама, накрой меня ещё чем-нибудь. Мне холодно, мама!
Эвердина сняла свою лёгкую шёлковую мантилью и прикрыла ею мальчика.
Эдвард безумен! Он не подумал о собственных детях. Чужое несчастье было ему ближе своего.
Сердце Эвердины ожесточалось против Эдварда.
* * *
Хозяин «Серебряной сельди» очень удивился, когда увидел незнакомую бледную даму без шляпы с двумя детьми и няньку цвета медового пряника.
Сзади шёл служащий парохода в форменной куртке с галунами. Капитан велел сопровождать даму, чтобы та не ушла, не заплатив.
— Мой муж, Эдвард Деккер, несколько раз останавливался у вас, — заторопившись, сказала Эвердина. — У меня пропали все деньги в дороге, — не можете ли вы дать мне пятнадцать гульденов на билеты?
— Труде, — повернулся трактирщик к жене, — что ты скажешь? У нас сегодня хорошая выручка, — я думаю, мы можем дать мефрау Деккер на билеты.
— Я очень хорошо помню менгера Деккера, — спокойным певучим голосом ответила Труде. — Он был такой любезный всегда и такой весёлый…
Она вынула из кассы пятнадцать гульденов.
— Знаешь, Труде, — сказал трактирщик, — бедная мефрау, видно, очень устала. Дадим уж ей все восемь гульденов на проезд железной дорогой до Гааги.
И трактирщик умолк, потрясённый собственной добротой.
* * *
Через несколько часов они были в Гааге.
У Генриетты был покойный, богато убранный дом, с дубовой столовой, с натёртым до блеска полом, с высоким камином, выложенным изразцами. «Счастливый приют», — написано, было на медной начищенной дощечке у входа. Горничная у парадной двери попросила их обтереть ноги. Пауль Ван-Хеккерен раскланялся с ними на лестнице, вежливо и сумрачно, ничего не сказав. «Ваш муж — неуравновешенный человек, дорогая Эвердина», — вспомнила Эвердина фразу из его последнего письма. Наверху их встретила удивлённая Генриетта.
— Не думаешь ли ты, сестра, что Пауль может взять на себя содержание второй семьи? — сказала Генриетта.
Она накормила их всех обедом. Потом дала Эвердине двадцать гульденов и попросила её ехать дальше.
Они заночевали у Яна, в дачном доме, в Бруннене, в нескольких милях от Гааги. Ян и его жена встретили Эвердину сердечнее, чем Генриетта, но у них тоже нельзя было оставаться: Ян разорился на табачных делах и сам искал заработка.
Эвердина уложила детей, но сама не легла. Она села писать письмо Эдварду. Только поздно ночью она, наконец, запечатала своё письмо.
Утром к ней приехала из Гааги Генриетта.
— Мы с Паулем всё обсудили, — сказала Генриетта. — Мы готовы выплатить тебе вперёд твою половину в выигрышном билете.
Должно быть, они с мужем испугались того, что Эвердина, прожив несколько дней у Яна, снова вернётся просить приюта.
— Мы выплатим тебе вперёд твои двести пятьдесят гульденов, — сказала Генриетта. — Но прежде ты должна написать одно письмо. Ты должна написать своему сумасбродному мужу, что ты отказываешься от него.
Ни одной слезинки не выступило на сухих, воспалённых от бессонной ночи глазах Эвердины.
— Какое совпадение! Сегодня ночью я уже написала это письмо! — ответила Эвердина.
* * *
«Эдвард, ты был безумен! До сих пор я поддерживала тебя во всём, что ты делал! Я была слепа… Но дальше так продолжаться не может. Теперь я вижу, что ты был безумен, Эдвард. Ты поступал преступно по отношению к собственным детям. О яванцах, ты думал больше, чем о них. И сейчас, когда мы все на краю гибели, ты не делаешь ничего, чтобы восстановить положение семьи. Честный человек на твоём месте, вместо того чтобы носиться с новыми безумными планами, искал бы место матроса или стюарда на пароходе…»
Эдвард метался по своему номеру. Он ничего не понимал.
Всё тот же дом виднелся в окно гостиницы, белый, с коричневым переплётом узких ставней. В сотый раз Эдвард останавливался у окна и глядел на дом.
Эвердина отказывалась от него, чтобы спасти детей… Значит, Ван-Хеккерены обещали ей за это помощь? Но почему же тогда штемпель на конверте Бруннен, а не Гаага?…
Эдвард снова тупо останавливался у окна.
«Честный человек на твоём месте, вместо того чтобы носиться с новыми безумными планами, искал бы место матроса или стюарда на пароходе…»
«Надо мною будут смеяться, Эвердина, если я, в тридцать восемь лет, измождённый, усталый, с больной печенью, пойду наниматься в матросы!…»
Эдвард снова перечитывал письмо. Нет, она не могла так думать. Любовь сквозила в каждом её слове. Это письмо надо было читать всё наоборот. Вместо «я отказываюсь от тебя»: «я всегда с тобой». Она не осталась у Генриетты!…
Через час пришёл перевод на сто гульденов.
— Нет, всё ясно! Ван-Хеккерены дали ей денег ценой такого письма!
Теперь Эдвард мог расплатиться с хозяином и уехать. Он был свободен. Но куда ехать? К Эвердине? Он не знал, что ему делать.
Поздно вечером, с последней почтой, Эдварду принесли в номер ещё одно письмо.