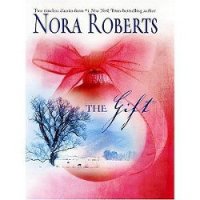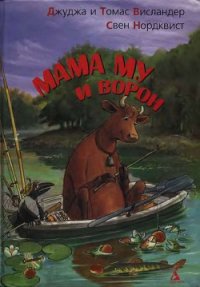В морях твои дороги - Всеволожский Игорь (книги онлайн полностью .txt) 📗
— Чего пожелать тебе в новом году? — спросил Фрол.
— Пятерок и плавания. А тебе?
— Побольше пятерок и как можно больше плаваний!
— Ты знаешь, — сказал Фрол, — я как только окончу училище, стану усы отращивать. Приду на флот — все вид солиднее будет.
— Фрол, да ведь у тебя усы будут рыжие!
— Ну, и что? А почему бы им не быть рыжими?
Но вот погасли огни; круглые морские часы показывают четыре.
— Ну, уж сегодня меня никто не добудится к чаю! — пообещал Фрол, на ходу раздеваясь и на ходу засыпая. И, действительно, добудиться его первого января было невозможное
Давно, во время войны, когда отец пропадал без вести, я просился на флот, в юнги. Я писал командиру соединения катеров: «Я хочу жить по правде, как мой отец, и, когда вырасту, обязательно буду, как он, коммунистом».
Быть коммунистом! Как много значат эти два слова! Жить по правде. А как жить по правде? Теперь мне думалось — так, как живет настоящий коммунист — Глухов.
Глухов знал о моем заветном желании. Он рассказывал, как сам волновался, когда его принимали в партию.
— Я себя постоянно спрашивал, — говорил он: — «Достоин ли я?» Замполит, который дал мне рекомендацию, сказал: «Ваши проступки, Глухов, вам прощаются, вы совершали их необдуманно, потому что были еще слишком молоды. В дальнейшем же каждый проступок, каждая ваша ошибка ляжет пятном на вашу репутацию. Став коммунистом, вы должны быть примером для всех ваших товарищей». И я старался избавиться от своих недостатков, а мне это давалось с трудом. Но если хочешь быть коммунистом не на словах, а на деле, то все переборешь.
— Ты знаешь, Кит, — говорил Фрол, — я ночью проснусь, бывает, и думаю: кто мне рекомендацию даст? Приду я к Глухову, а он мне: «Вас столько драили. Живцов, столько вы совершали проступков, не могу я за вас поручиться». Никогда не забуду, как он мне сказал, что я — несобранный человек. У нас вот на катерах был один старшина, Филимонов, — продолжал Фрол. — Он заявление в партию подал, когда мы в операцию шли. Если погибну, мол, прошу считать меня коммунистом. Ну, погибнуть-то он не погиб, уцелел. И что же? Он, видно, думал: дерешься с врагом хорошо — значит все остальное простится. И так себя стал вести, что как натворит что-нибудь, говорили: «Ну, что с него спрашивать — Филимонов!». Пытались его перевоспитать, да не вышло. Исключили. Позор какой, Кит! Я с ума бы сошел, если бы обо мне говорили: «Ну, что спросишь с Живцова?» Я хочу, чтобы все говорили: «Живцов — он не подведет. Живцов — он своим партийным билетом дорожит больше жизни». Понятно тебе это, Кит?
— Да. А ты знаешь, мне кажется, не зря Глухов нам рассказывал про то, что по молодости прощается. Ведь нам с тобой тоже прощали многое. Но теперь нам уже двадцать лет…
— Да, Кит. А скоро будет двадцать один!
— И ни о какой скидке на молодость говорить не приходится.
— Значит, мне и надеяться не на что!
— Ошибаешься. Глухов тебе рекомендацию даст.
— Ну, допустим. А другую кто?
— Гриша Пылаев.
— Мне не до шуток, Кит.
— А я не шучу.
— Ты знаешь что, Кит? В Нахимовское мы вместе пришли, в комсомол нас тоже с тобой в один день принимали, в училище вместе пришли и в партию вместе готовиться будем. И на третьем курсе…
Приближалась весна, и черные трещины расползались по замерзшей Неве; капало с крыш.
Подготовка к экзаменам захватила нас с головой.
Фрол из себя выходил, когда замечал, что кто-нибудь ленится и это может грозить классу тройкой. Он накидывался на лентяя, даже если нарушитель порядка был его другом:
— Дремлешь на самоподготовке? Нет в тебе внутренней дисциплины! Работать нужно! Науку приступом не возьмешь!
Или:
— Чертиков рисуешь? А заметку прошу написать в газету — некогда? На флот лейтенантом придешь, со стенной печатью дело иметь придется, теперь тренируйся!
И Фрол шел и сам писал полную желчи заметку о курсантах, на самоподготовке рисующих чертиков и надеющихся на «авось». И он напоминал, что из нашего училища вышли герои Северного, Балтийского, Черноморского флота, герои Сталинграда и Севастополя. Все они потому отважно действовали в боях, — делал Фрол вывод, — что «отважно учились» и получали одни лишь пятерки (и в подтверждение своих слов он раздобыл и «опубликовал» отметки героев).
Наконец, экзамены были сданы, и наш класс на этот раз не получил ни одной тройки. Это было настоящей победой. Я написал отцу, телеграфировал Антонине: «Поздравь, закончил пятерками, еду на практику».
Перед отъездом зашли проститься с Вадимом Платоновичем. Старик напутствовал нас, как родных сыновей.
— Море не терпит тех, кто не знает его или знает поверхностно, — говорил нам Вадим Платонович. — Корабль тоже. В дни моей молодости старшина указал мне на неполадку в одном из механизмов и попросил помощи. А я, скажу по совести, полагал, что старшина-практик сам справится с неполадками. И вот вам — стыд и конфуз! Я не мог взглянуть в глаза старшине. Прошло много лет с того дня, а я сейчас от стыда горю, когда о нем вспоминаю. Об этом узнал мой командир. «Лучше поздно, чем никогда», — сказал он и стал со мной заниматься. А я терзался тем, что отнимаю время у занятого человека; и все потому, что еще в училище не проверил, все ли я знаю, что положено знать офицеру. Вот и вы: идете на практику, старайтесь теперь же освоить корабельную технику, чтобы, придя на флот, не краснеть от стыда, как это случилось с вашим покорным слугой.
Мы вышли из гостеприимного дома старого моряка, когда над набережной зажглись цепочки огней. Постояли на мосту лейтенанта Шмидта. Под звездным небом чернела река, и в темноте колыхались зеленые и красные огоньки. Гудел пароход, уходивший в Кронштадт. Люди шли, задевая нас, занятые своими разговорами, — они спешили домой, в кино, в гости, в клуб. Вырвавшийся из-под моста буксир обдал нас теплым паром. Когда пар рассеялся, мы увидели освещенные окна училища. Откуда-то вынырнул луч прожектора, заскользил по воде и осветил небольшой военный корабль, весь заискрившийся серебром. «А ведь завтра и мы пойдем в море!» — подумал я. Фрол встрепенулся и, потянув меня за рукав, показал на корабль:
— Какая, Кит, красота!
Глава восьмая
СНОВА В МОРЕ
Я плавал летом на маленьком корабле. Командовал тральщиком «Сенявин» лейтенант Бочкарев, молодой, небольшого роста, с облупившимся носом и потрескавшимися губами. В его каюте было тесно от книг: стояли они и на полках, и на столе, и над койкой. На переборке висела цветная фотография «Сенявина», а под ней портрет старухи в платке — очевидно матери командира. Приветливо встретив меня, Бочкарев сказал почти по-товарищески:
— Не смущайтесь, спрашивайте у меня и у всех; я убедился на собственном опыте, что мы приходим на практику все еще очень невежественными. И самое большое зло — когда глядишь на какой-нибудь механизм, как баран на новые ворота, а спросить стесняешься. Самолюбие заедает: а как же так — я курсант, почти офицер — и вдруг свое невежество выявлю? Плохо будет, если уйдешь с корабля с чем пришел. Я вот всех спрашивал — матросов, старшин, офицеров — и ни капли в том не раскаиваюсь.
Говоря со мной, Бочкарев слегка постукивал по лакированной крышке стола короткими пальцами с аккуратно обстриженными ногтями.
«Все учат, — подумалось мне. — Учат преподаватели, старшие офицеры в училище, учит и этот лейтенант Бочкарев, который немногим старше меня и наверняка пришел на флот прошлой или, в крайнем случае, позапрошлой осенью».
— Корабль, — продолжал Бочкарев, — наш дом, а матросы — семья. С сегодняшнего числа мой корабль — и ваш дом, а команда — и ваша семья. Милости просим, вам рады, — его мальчишеские ярко-голубые глаза смотрели прямодушно и дружественно. Я почувствовал, что хоть он и смотрит на меня с некоторым превосходством, но без мыльниковского пренебрежения к младшему. — Приобщайтесь к нам, привыкайте, постарайтесь полюбить нас и любите корабль, уж он-то, хотя и мал золотник, да дорог: биография у него очень большая. Советую с того и начать…