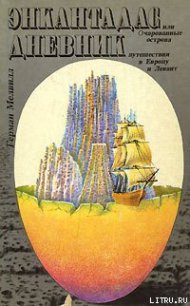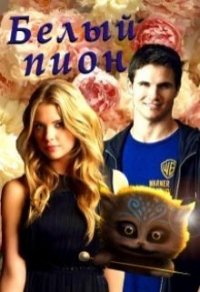Моби Дик, или Белый Кит - Мелвилл Герман (читать книги полностью без сокращений .TXT) 📗
Я рад был бы заключить эту главу вышеприведённым обращением к читателю, но, к сожалению, не могу этого сделать, ибо во что бы то ни стало должен опровергнуть одно обвинение, которое часто выдвигают против китоловов и которое в глазах людей предубеждённых получает косвенное доказательство в истории с французом и его двумя китами. Ещё ранее в этом томе были разбиты клеветнические нападки на китобойную профессию, провозглашавшие её делом грязным и неаппетитным. Остаётся дать отпор ещё одному ложному утверждению. Некоторые люди распространяют слух, будто киты вообще скверно пахнут. И откуда только берётся такая возмутительная ложь?
Всего вероятнее, что она восходит к тем дням, когда в Лондон более двух столетий тому назад прибыли с гренландского промысла первые китобойцы. Дело в том, что эти китобойцы тогда, как и теперь, не вытапливали китовый жир прямо в море, как это делают суда в южных плаваниях, но, разрубая сало на мелкие кусочки, набивали ими, вытащив втулку, огромные бочки и в таком виде привозили домой, поскольку краткие сроки промысловых сезонов в ледовитых морях и внезапные свирепые штормы не дают им возможности поступать иначе. А в результате, когда у пристани раскрывают трюм и начинают разгружать эту китовую покойницкую, запах там стоит примерно такой же, какой поднимается над городом в том месте, где перекапывают старое кладбище, чтобы выстроить здесь родильный дом.
Кроме того, как нетрудно догадаться, поводом для этого возмутительного навета на китобоев могло послужить существование в прежние времена на берегах Гренландии голландского поселения под названием Шмеренбург или Смеренберг [286] (в последней форме это слово встречается у премудрого Фого фон Слака на страницах его славного труда «О Запахах» – надёжнейшего руководства по этим вопросам). Как можно заключить из самого названия (смер – сало, берг – хранить), это селение было основано там, чтобы голландцы вытапливали в нём китовый жир, добываемый их флотилиями, и не возили бы для этой цели сало к себе в Голландию. Посёлок представлял собой большое скопище печей, жировых котлов и маслохранилищ; и, понятно, когда всё это топилось и дымилось, запах оттуда исходил не слишком приятный. Но на китобойце в Южных морях всё это происходит совсем иначе; за четырехгодичное плавание он до отказа наполняет маслом трюм, не потратив в общей сложности на вытапливание и пятидесяти дней; а разлитое по бочонкам масло почти не пахнет. Истина состоит в том, что кит, живой ли, мёртвый ли, ни в коем случае не может считаться дурно пахнущим созданием; и китолова в обществе не узнаешь по запаху. Да и вообще-то откуда взяться у кита иному запаху, кроме самого приятного, если здоровье у него всегда превосходное? Ведь он не сидит в четырёх стенах, а большую часть времени проводит в движении, хотя, конечно, и не совсем на воздухе. Говорю вам, взмах кашалотового хвоста над волнами распространяет вокруг аромат, подобный тому, что оставляет за собой надушённая мускусом дама, прошелестевшая юбками по уютной гостиной. Чему же уподоблю я благоуханного кашалота, при его гигантских размерах? Быть может, тому легендарному слону с бивнями, унизанными драгоценными камнями, и боками, умащёнными миррой, который был выведен через врата индийского города навстречу Александру Великому, дабы воздать ему высшие почести?
Глава XCIII. Брошенный
Прошло всего лишь несколько дней после встречи с французом, когда одно весьма значительное событие приключилось с самым незначительным членом команды «Пекода»; событие в высшей степени плачевное; и привело оно к тому, что у нашего бесшабашного и обречённого корабля появилось своё живое неотступное знамение, заведомо сулящее все самые убийственные беды, какие бы ни были ему уготованы.
На китобойце не все члены экипажа ходят на вельботах. Несколько матросов всегда остаются на борту, и в обязанности им вменяется управлять судном, пока вельботы преследуют китов. Обычно эти матросы – такие же крепкие ребята, как и те, что составляют команды вельботов. Однако, если среди матросов случится один слишком тщедушный, или неуклюжий, или боязливый, то уж такого-то во всяком случае в вельботы не берут. Так было и на «Пекоде» с негритёнком по прозвищу Пиппин, сокращённо Пип. Бедняга Пип! вы уже слышали о нём, читатель, и помните, конечно, его тамбурин в ту страшную ночь со всем её мрачным ликованием.
С виду Пип и Пончик были под стать друг другу, точно чёрный пони и белый пони, сведённые забавы ради в одну упряжку. Но если незадачливый Пончик был от природы вял и немного туповат, Пип, хотя и слишком чувствительный, был в сущности мальчиком живым и весёлым, отличаясь той жизнерадостной, сердечной и добродушной весёлостью, какая свойственна его племени – племени, отмечающему всякий праздник, всякое торжество куда радостнее и самозабвеннее, чем любая другая раса. Для негров весь календарь должен был бы состоять из трёхсот шестидесяти пяти Новых Годов и Дней Независимости. И не улыбайтесь, пожалуйста, когда я пишу, что в этом чернокожем мальчике был какой-то блеск, ибо и чернота может быть блестящей; взгляните, к примеру, на сверкающие в покоях у короля панели из чёрного дерева. Но Пип любил жизнь и все мирные радости жизни; и то жуткое дело, в которое он каким-то необъяснимым путём оказался втянут, самым печальным образом затмило в нём этот блеск; хотя, как мы увидим вскоре, подавленному в нём огню суждено ещё было под конец вспыхнуть таинственным буйным пламенем, в зловещем свете которого он выступит в десять раз ярче, чем в те дни, когда он, сияя белозубой улыбкой у себя в родном Коннектикуте, вносил огонь оживления в деревенские пляски на зелёном лугу, своими певучими ритмичными возгласами и весёлым смехом превращая круглый горизонт в увешанный бубенцами звёзд крутящийся тамбурин. Так при свете ясного дня капля алмаза чистой воды на белой шее с голубыми жилками сверкает огнём здоровья; но если умелый ювелир вздумает показать вам этот алмаз во всём его удивительном блеске, он положит его на чёрное, а затем осветит, но не солнцем, а какими-то колдовскими газами. И тогда в нём зажигается порочно прекрасное ослепительное свечение; тогда нечестиво сверкающий алмаз, некогда божественный символ хрустальных небес, кажется похищенным из короны Царя Преисподней. Однако вернёмся к нашему рассказу.
Случилось так, что во время приключения с серой амброй загребной из лодки Стабба так растянул себе сухожилие в запястье, что не в состоянии был поднять весло, и временно его должен был заменять Пип.
В первый же раз, когда Стабб спустил с ним свой вельбот, Пип проявил сильное беспокойство; но, по счастью, близко подойти в тот день к киту им не удалось; и Пип в общем-то вышел из этого испытания, не запятнав свою честь; хотя Стабб, приглядевшись, потом всячески увещевал его, призывая растить и лелеять собственную храбрость, потому что в ней всегда может возникнуть надобность.
Во второй раз вельбот подгрёб к самому киту; и когда рыба, почуяв в боку смертоносный гарпун, ударила хвостом по днищу лодки, удар этот пришёлся прямо под банкой Пипа! Нестерпимый ужас охватил мальчика и заставил его выскочить из лодки с веслом в руке; прыгнув, он зацепил грудью свободно висящий линь, потянул его за собой и, плюхнувшись в воду, сразу же в нём запутался. В то же мгновение кит рванулся что есть силы, началась обычная гонка, линь стал быстро натягиваться, и вот уже бедный Пип, весь в пене, всплыл под носом вельбота, затянутый туда беспощадным линём, несколько раз обвившимся вокруг его груди и шеи.
На носу стоял Тэштиго. Он весь горел охотничьим азартом. Как ненавидел он этого трусливого мямлю! Схватив нож, он занёс острое лезвие над канатом и, обернувшись к Стаббу, отрывисто спросил: «Рубить?» А между тем синее задыхающееся лицо Пипа красноречиво молило: «Руби, бога ради, руби!» Всё это заняло одно мгновение, какие-нибудь полминуты.
– Руби, чёрт бы его драл! – рявкнул Стабб.
286
Смеренберг (Смеренбург) в действительности был на Шпицбергене.