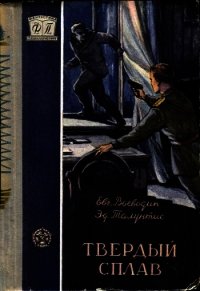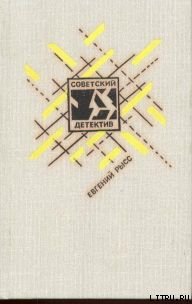Буря - Воеводин Всеволод Петрович (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Ещё мне очень нравился наш тралмейстер Силин. Во время работы он был свиреп и придирчив. Он носился как бешеный, на всех орал и сам работал за десятерых. Если кто-нибудь медленно тащил тали, он хватал их сам и мчался с невероятной скоростью. Если кто-нибудь не успевал зачинить трал, он вырывал иглу и чинил сам, при этом он страшно ругался, и чувствовалось, как он злится на всех, потому что все, с его точки зрения, работают плохо, медленно и лениво. Иногда он впадал в исступление, а иногда доходил до отчаяния. Тогда он останавливался, наклонял голову набок, и руки его повисали, как плети.
— Человек ты или не человек? — плачущим голосом говорил он Балбуцкому, зазевавшемуся у лебедки. — Будешь ты вирать, когда тебе говорят вирай, или не будешь? — И всегда во время работы усы его топорщились кверху.
В свободное время это был скромный, стеснительный человек, очень молчаливый и тихий. Смущенно улыбаясь, подсаживался он к собравшимся кружком матросам, молчал, с удовольствием слушал разговоры и песни и краснел, когда к нему обращались.
Раздавался сигнал к подъему трала. Вихрем начинал носиться тралмейстер по палубе, и громкий голос его далеко разносился над океаном.
В свободное от вахты время мне не приходилось скучать. После обеда мы обычно играли в «козла», громко стуча костяшками о стол, издеваясь над проигравшими и ругая друг друга за промахи. Часто и много пели. Иногда мы располагались на палубе, а чаще на рострах, где нам никто не мешал. Дня через два после того, как я пришел в себя, ветер утих, и океан снова стал светло-голубым, спокойным и гладким. Глупыши покачивались на еле заметной волне, и воздух был так чист, что всё было видно во много раз ясней, чем обычно. С украшенной бантом гитарой поднимался на ростры салогрей, толстяк, у которого ярко блестела кожа не то от рыбьего жира, не то от своего собственного. Настроив гитару, он начинал петь мягким, красивым голосом. Некоторые подпевали ему, другие слушали, полулежа на свертках канатов, следя за драками и суетней глупышей вокруг рыбьих внутренностей.
с надрывом пел салогрей, весь отдаваясь грустному настроению песни, и лицо его, румяное, блестящее от жира, становилось выразительным и красивым. С палубы доносился до нас стук ножей, приглушенная беседа шкерщиков и крики дерущихся глупышей. В рубке звонил телеграф, молодой парень «маркони» — радист — выходил из своей каюты и, облокотившись о поручни, смотрел, как ровно колышется море; матросы молчали, некоторые смотрели на океан, другие следили за неторопливым полетом поморника, большой горделивой птицы, медленно пролетавшей над мачтами нашего судна.
«Всё кончено! — представлял себе я. — Вежливо простившись с Лизой, не дав ей почувствовать, какое горе сжимает мне сердце, я ухожу на корабль. Пора. Убраны сходни, берег скрывается вдалеке. Я, как обычно, спокоен и весел, только, может быть, иногда дольше, чем обычно, смотрю на океан. Никто не знает, что после последнего разговора с Лизой, когда она, засмеявшись, отрицательно покачала головой, душа моя умерла и только оболочка шагает взад и вперед по мостику». Потом мне всё-таки становилось обидно, что никто этого не знает, и я представил себе, что, наоборот, все заметили это и восторгаются моей выдержкой.
пел салогрей.
Отчего это в юности всегда представляются события грустные и трагические? Может быть, оттого, что они требуют от человека мужества, а в юности очень хочется быть мужественным.
Свистунов пел совсем не так, как салогрей.
— А вот ещё есть старая песня, — говорил он очень деловым тоном, — про одного штурмана в прежнее время.
Потом он начинал петь, слегка жмурясь, очень четко выговаривая слова и в такт покачиваясь. В песнях его обычно рассказывалась какая-нибудь история, я главное было не настроение, а излагаемые факты. Так как многие из песен были непомерно длинны, часть песни он иногда излагал своими словами.
Он пел:
И тут переходил на прозу:
— Дальше он поступает матросом, и к нему очень придираются и не дают ходу, так что потом он… — И снова шла песня:
Слушали его из уважения. Песни салогрея любили больше.
Иногда затягивали песню все вместе, хором, и тогда у всех становились серьезные лица, и все старательно выводили каждое слово. Иногда, в свободное время, Шкебин и Мацейс, работавшие в первой вахте, присоединялись к нам. Оба они любили компанию. Мацейс чаще пел веселые, шуточные песни. Знал он их бесконечное множество. Взяв у салогрея гитару, он начинал:
Мне не особенно нравились его песни. Слушая их, я не мог представить себе ничего мужественного и героического из своей будущей жизни. Но сам Мацейс был красивым и обаятельным парнем. На каждое слово у него находился ответ, всё он знал и всё делал уверенно и спокойно.
Ко мне он относился дружелюбно. Звал меня Женькой, порою со мной шутил, иногда, подойдя сзади, неожиданно изо всей силы хлопал меня по плечу и, когда, вздрогнув, я оборачивался, объяснял с очень серьезным лицом:
— Спас тебе жизнь. Убил на тебе ядовитую муху цеце. — И сдувал с руки воображаемую муху.
Однако, при всей внешней фамильярности наших отношений, я всегда в тоне его чувствовал, что он знающий, опытный моряк, а я «пистолет» и мальчишка. О встрече нашей до судна мы не вспоминали ни разу. По совести говоря, я вообще как-то забыл береговые свои приключения. Вернее — не то, чтобы забыл, а как-то ни разу о них не подумал. Очень уж оттеснили их новые события и новые люди. Незначительный случай заставил меня всё снова вспомнить.
Однажды, приладив на мостках бочонок, разложили мы небольшой огонек и коптили четырех свежих морских окуней. Это мы делали часто. Рыбы на тральщике сколько угодно, а ничего вкусней только что закопченного морского окуня я, по-моему, в своей жизни не ел. И вот Донейко забеспокоился, успеют ли закоптиться окуни до нашей вахты.
— Который час, ребята? — окликнул он матросов, работавших на палубе. Мацейс оттянул рукав и взглянул на часы. Я не слышал, что он ответил. Я вздрогнул. На его руке были золотые часы, те самые, которые — я это точно помнил — он оставил Юшке. Почему же часы опять у Мацейса? Не нужно было быть сыщиком, чтобы догадаться: значит, когда началась суматоха, Мацейс часы сунул в карман. Не моральная сторона этого поступка смущала меня. В конце концов, вор у вора дубинку украл. Мне-то какое дело? Но сразу в памяти моей с удивительной ясностью встала соломенная пещера, и поблескивавшие в темном углу глаза Мацейса, и обрывки разговоров, один другого подозрительнее.
Я огляделся. Солнце светило вовсю. Белые глупыши летали над светлоголубым морем. Чистый, нетронутый снег лежал кое-где на палубе и на чехлах шлюпок. Весело стучали ножи шкерщиков, и Жорка Мацейс, может быть, самый веселый и славный из этих парней, между делом взбегал к нам по трапу и с интересом заглядывал в бочонок. Здоровьем, силой так и веяло от его статной, крепкой фигуры. Смеясь, он рассказывал что-то Донейко. Но, глядя на него, я видел соломенную пещеру, отвратительного старика, кусавшего сырую рыбу, и Жору Мацейса, склонившегося над тряпкой, в которой завернуты какие-то документы.