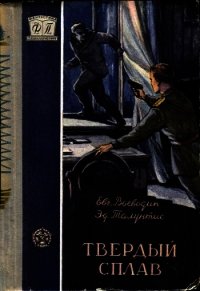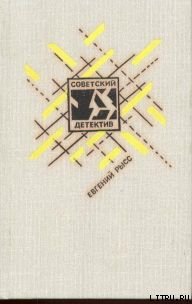Буря - Воеводин Всеволод Петрович (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Слухи, неопределенные слухи о неблагополучии распространялись с такой быстротой, что к двенадцати часам они проникли даже в тихие больничные палаты. Неопределенное ощущение беспокойства, отдельные вырвавшиеся слова, недомолвки — всё это заставляло Сизова большими шагами ходить по больничному коридору, громить про себя докторов, халат и домашние туфли.
Следствием, проведенным в дальнейшем, не было установлено, каким образом Сизов получил всё-таки брюки, и китель, и белье, и фуражку, и сапоги. Некоторые говорят, что вахтером в больнице служил старый матрос и что в последний раз, когда видели Сизова в халате, он беседовал о чем-то с этим вахтером. В двенадцать часов тридцать минут ураган ворвался в больничную палату через широко распахнутое окно. Окно распахнул Сизов. Грузная его фигура тяжело спрыгнула с полутораметровой высоты на землю.
Удивительно мало было народу на улице. Редкие прохожие жались к стенам домов, и ветер гнал одних, не давал идти другим, вырывал недавно посаженные березы, выл в трубах, носил тучи песка.
Бормоча про себя что-то о том, что Сизова, мол, не запрешь и что шторм выздоравливающим полезен, Сизов добрел, стараясь преодолеть слабость и головокружение, до рыбного порта. В кабинете Марченко никого не было. Властным жестом отведя караульного, поставленного у дверей, Сизов вошел в помещение радиостанции. Он сразу понял, что что-то произошло. Он понял это потому, что ни Голубничий, ни Марченко не спросили его, каким образом он ушел из больницы, и не поздравили с выздоровлением. Он понял это и весь подобрался, прошла слабость в ногах и головокружение.
В двенадцать часов пятнадцать минут из военного порта вышли серые эсминцы. Развернувшись один за другим, двинулись они к открытому морю. Ветер рвал дым над трубами, волны разбивались о броню, в кубриках помполиты проводили собрания, командиры стояли в бронированных рубках, гигантские волны носились вокруг, пена ползла по стальной броне. В двенадцать двадцать пять четыре тральщика отошли от стенки и, развернувшись, двинулись к открытому морю. В четырех столовых четыре помполита открыли общие собрания команд. Матросы слушали задание и молчали, потому что тут говорить было нечего, а нужно было действовать.
О причинах, из-за которых тральщики оказались на краю гибели, ни на одном собрании не было сказано ни одного слова. Дубровин запретил упоминать об этом. Протоколы допросов продолжали заполняться один за другим, у следователей рябило в глазах, время от времени в протоколах допросов мелькала то одна, то другая не названная раньше фамилия.
Дубровин запретил упоминать о причинах спасательной экспедиции, потому что он сам ещё не знал всех тех, от кого нужно было скрывать, что дело раскрыто.
Голубничий, Марченко и Сизов сидели друг против друга в радиостанции рыбного порта. Радисты выстукивали радиограммы и, надев наушники, исписывали бланки сообщениями капитанов, терпящих бедствие. Всё было спокойно. Тральщики штормовали, держась против зыби, машины работали хорошо, качка была нормальная. На 89-м капитан в эту минуту докладывал команде о положении. На 90-м капитан просил пеленга и устанавливал свои координаты. Эсминцы вышли в открытое море, тральщики прошли Тюва-губу. Позвонила Москва. Пока всё спокойно, сказали ей. Москва спросила, не нужно ли сделать представление норвежскому правительству и вести спасение параллельно и с норвежского берега. Капитаны посовещались и ответили, что не нужно, потому что всё равно наши эсминцы придут скорее. И за стеной портовой радиостанции текла нормальная жизнь учреждения, стучали машинки, кассиры считали деньги, счетоводы щелкали на счетах.
Тринадцать часов. Тринадцать часов десять минут.
Один из эсминцев подобрал команду погибавшего норвежского бота. Бородатые рыбаки в красных шарфах благодарили командира и комиссара и очень удивились, узнав, что эсминцы вышли специально спасать рыболовные суда. Капитан норвежского бота сказал, что, конечно, норвежский военный флот тоже вышел спасать своих рыбаков. Капитан врал и сам знал, что он врет, но ему хотелось поддержать достоинство свое и своей страны, и все понимали это, и всем было его немножечко жалко. Ему прощали наивное хвастовство и говорили, что будто бы кто-то где-то видел что-то похожее на норвежское судно. И эсминцы шли дальше, один за другим, прорываясь сквозь водяные горы, сквозь пургу и ветер, и сзади шли тральщики, заливаемые волной, скользя с гребня на гребень, и всё было в порядке, всё было как будто спокойно.
Но вот пришла первая тревожная радиограмма. 90-й сообщил, что судно получило крен до двадцати градусов на правый борт и долго не выпрямляется. Плохо слушает руля.
В этом не было ещё ничего крайне угрожающего. Но и Сизов, и Марченко, и Голубничий не глядели друг на друга, потому что каждый боялся выдать ужас, сжавший ему сердце.
— Перекачай водяной балласт, — забасил Сизов, и Голубничий продиктовал радисту:
— «Капитану «РТ 90» Ткачеву. Сизов советует перекачивать водяной балласт».
«Перекачиваем, — ответил 90-й. — Судно понемногу выпрямляется».
Очень быстро шли эсминцы сквозь водяные горы, но каким медленным казалось их движение Голубничему, Марченко и Сизову, склонившимся над картой! Карандашом набрасывали они маршрут и циркулем измеряли расстояние. О, если бы по морю можно было двигаться, как по карте!
90-й опять положило, но уже на левый борт. Вполголоса совещались Голубничий, Марченко и Сизов, и уже не они одни, потому что и секретарь окружкома сидел здесь же, и представитель наркомата, приехавший на обследование, и ещё два механика, потому что совет механика может всегда понадобиться. И потом очень долго с 90-го не было вестей. Все понимали: капитан в рубке, капитану сейчас не до того, чтобы говорить с берегом.
«Абрам, — выстукивали радисты, — как там у вас?»
Радист 90-го, всем здесь знакомый Абрам, сообщал, что он, конечно, не капитан и сказать ничего не может, но, по его мнению, дело табак и (это не было высказано, но чувствовалось в каждом его слове) ему очень не хочется умирать.
Нет, 90-й опять выпрямился. Ткачев сообщил, что в результате принятых мер тральщик в нормальном положении.
У всех отлегло немного от сердца, но ужас не проходил, потому что все понимали: уже близка та волна, которая снова положит 90-й набок.
Москва запросила координаты спасательных судов. В Москве также склонились люди над картой и вымеряли циркулем расстояние. Если следить по карте, казалось, что страшно медленно движутся эсминцы, а между тем механики старались выжать из машин всё, что они могли дать.
14 часов 40 минут. 14 часов 50 минут. 15 часов.
89-й идет хорошо, 90-й кладет, но ничего — он держится.
А слухи просачивались сквозь стены, и разговоры о том, что тральщики в опасности, шли по городу. Они проходили мимо квартир тех, кто сейчас на 90-м и 89-м. Кто же мог решиться сказать жене или сыну о том, что происходит в океане! Но слухи шли по общежитиям, по столовым, по квартирам тех, кто был на берегу. Морякам не сиделось дома, они группами собирались у причалов, толкались в конторе рыбного порта, тихо переговаривались, дымили папиросами, трубками, «козьими ножками».
Что можно сделать ещё? Надо ждать. И вот они ждали. Голубничий не басил свои «гром и молния» и «зеленая лошадь», Марченко не шмыгал носом, Сизов не пил рыбий жир. Они ждали, и это было самое трудное, что может выпасть человеку на долю. Снова клало 90-й, и снова он выпрямлялся. Они теперь шли совсем рядом, два терпящих бедствие судна; они видели сквозь пургу огни друг друга, но это ничему не могло помочь.
В пятнадцать сорок случилось, наконец, то, чего боялись и Марченко, и Сизов, и Голубничий, и секретарь окружкома, и капитаны четырех тральщиков, и командиры трех эсминцев; о чем с тревогой думали люди в Москве, о чем негромкий, но ясный голос Москвы спрашивал всё время по телефону.
Радист принял SOS, и все поняли, что дело совсем уже плохо, потому что Ткачев — человек спокойный и выдержанный. Наступила бесконечная пауза. Радисты приняли сообщения, что 89-й и 90-й разговаривают друг с другом и говорить с берегом не могут. Значит, там ждать нельзя ни минуты; значит, речь идет уже о том, чтоб спасать сейчас же, сию секунду погибающих людей. Но кто будет спасать, — 89-й? Что сделает он, если любая волна может опрокинуть его самого?