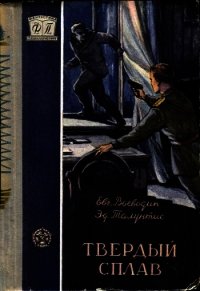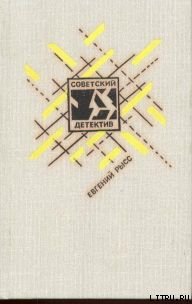Буря - Воеводин Всеволод Петрович (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Глава XXVII
МЫ ОСТАЕМСЯ НА СУДНЕ
Нас осталось на тральщике десять человек: капитан, помполит, Фетюкович, кок, Свистунов, Донейко, Балбуцкий, Полтора Семена, беззубый засольщик и я. Проводив глазами наших товарищей, которые ушли греться на подветренный берег, мы стали устраиваться на опустевшем судне.
Решено было, что сидеть мы все будем в кубрике, сейчас это было самое высокое место, а наверху, на полубаке, будут стоять два дозорных, чтобы не пропустить идущего мимо судна или людей на берегу. Дозорные должны были сменяться каждый час. Таким образом, после часа вахты полагалось четыре часа отдыха. Расписание вахт было составлено сразу же. В первой вахте были Свистунов и Полтора Семена, во второй — Балбуцкий и засольщик, в третьей — Донейко и кок, в четвертой — капитан и Фетюкович, в пятой — Овчаренко и Слюсарев. Я понял, что меня и Фетюковича нарочно присоединили к капитану и Овчаренко, как самых молодых и неопытных. Свистунов и Полтора Семена, получив бинокли, поднялись на полубак, а мы занялись нашим, как говорил капитан, «благоустройством».
Местом для «лагеря» была выбрана большая четырехместная каюта, первая по коридору налево. На нижних койках, расположенных одна против другой, были устроены сидячие места — по четыре на каждой койке. Верхние койки предназначены были для сна, но желающих спать пока что не находилось.
Фетюкович и Балбуцкий притащили аварийный радиоприемник, установили его на столе, и Фетюкович, усевшись на табурете, приступил к ловле в эфире берега. Я, Донейко и кок пошли за продуктами. Кладовая помещалась внизу, в кубрике. Мы спустились по трапу — он был теперь очень пологим — и поднялись по коридору. Я говорю: поднялись, потому что коридор шел теперь вверх под углом, наверное, градусов в двадцать.
Донейко нагрузился разной провизией, кок стал было нагружать и меня, но передумал, всё отобрал и сказал:
— Слетай-ка, Слюсарев, в камбуз, принеси — у меня там на полке — примус и две кастрюли.
Я вышел на палубу. Она уходила вниз под моими ногами. Осторожно, чтобы не поскользнуться, я спустился до грузового люка. Здесь начиналась вода. Защищенная надстройкой от ветра и волн, она тихо плескалась, и ролики торчали из неё, похожие на прибрежные камни. Держась за фальшборт, я зашагал по воде, но фальшборт скоро тоже ушел под воду, и я держался уже за стены столовой.
Странно теперь выглядело наше судно. Прямо из воды поднималась стена надстройки, и пустые глаза иллюминаторов обмывала вода. Рулевая рубка возвышалась как остров. Она откинулась назад, как будто засмотрелась на небо. Из воды торчали труба, мачта, флагшток. Казалось, — они поднимаются с морского дна, как гигантские и удивительные растения. Шлюпбалки похожи были на цветы, выросшие из воды и склонившиеся над водой, как где-нибудь в озере под Ленинградом. Трапы уходили прямо в воду, точно в купальне. Снасти раскачивались и плескались в воде. Печать смерти и запустения лежала на всём. Мне казалось, что ветер стих. Во всяком случае, волны были значительно меньше. Они свободно гуляли по судну, как будто уже много лет лежало оно здесь мертвое. Странно было подумать, что только несколько часов тому назад горел огонь в топках, работали машины, шел дым из трубы и, выполняя команду капитана, матросы бегали, смеясь и переговариваясь, по вычищенной до блеска палубе.
Чувствуя, что с каждым шагом палуба под моими ногами уходит всё глубже и глубже, добрался я до камбуза. С трудом я открыл дверь и вошел. Вода, плеснув, закрыла её за мной, и мне стало неприятно, и шевельнулась глупая детская мысль, что сзади бесшумными шагами идет существо, исчезающее, когда обернешься.
В камбузе было полутемно. Свет с трудом проникал сквозь потускневшие стекла иллюминатора. Сюда почти не доносился шум волн и ветра. Я остановился, пораженный царившею тишиной. Неподвижная вода стояла сантиметров, вероятно, на сорок. Она доходила почти до самого верха моих сапог. У меня всю жизнь было предубеждение против стоячей воды. Всегда мне казалось, что в стоячей воде должны прятаться омерзительные и ядовитые существа. Так и сейчас меня охватило отвращение. И всё мне казалось, что ногами я чувствую прикосновение скользкого тела. Я сделал шаг, и вода заволновалась, и мелкие волны побежали к плите, к кипятильнику, к раковине. Я сделал ещё шаг, и табурет, плававший по камбузу, качнулся и ударился о дверцу духовки. И все эти движения заставляли меня вздрагивать, и мне даже стало обидно, что я такой трус.
— Вот чорт! — громко сказал я.
Звук моего голоса ободрил меня. Я влез на плиту, достал с полки кастрюли и примус и, поднимая волны в маленьком комнатном озере, вышел из камбуза.
Я посмотрел на небо и увидел, что ветер не стих, как мне показалось раньше. Разорванные в клочья облака мчались по небу, как будто спасаясь от нагонявшего их чудовища. Значит, там, наверху, ураган бушевал попрежнему. Но здесь было сравнительно тихо. Каменные плечи Старовера заслоняли нас, и я только не мог понять, почему полчаса назад, когда мы уже сидели на банке, ветер был значительно сильнее.
Теперь палуба под моими ногами поднималась, и я скоро вышел из воды на сухое место. Свистунов и Полтора Семена стояли на полубаке, один у правого борта, другой у левого. Больше на палубе никого не было. Несмотря на то, что без ветра, казалось бы, должно было стать теплее, мне было очень холодно. У меня дрожали руки, и кастрюли, звеня, бились друг о друга. Мне приходилось делать усилие, чтобы не стучали зубы.
«Наверное, это оттого, что ноги мокрые», — подумал я и заторопился, решив в кубрике переобуться.
— Слюсарев! — окрикнули меня с полубака. Я поднял голову. Полтора Семена стоял у трапа. — Что там кок готовит? — спросил он.
— Не знаю, — ответил я. — В кладовой брал баранину, — наверное, жарить будет.
Свистунов тоже подошел к трапу. Он ничего не сказал, но у обоих стали грустные, мечтательные глаза. Видимо, им очень хотелось есть. К моему удивлению, я не почувствовал голода даже при мысли о жареной баранине.
Озноб мой усиливался. Весь дрожа, я вошел в кубрик, закрыл за собою дверь поплотней и быстро добежал до каюты. Керосиновая лампа висела над столом, ярко освещая Фетюковича, склонившегося над радиоприемником, кока, укладывавшего на сковороде аккуратно нарезанные куски баранины, Студенцова, Овчаренко, Донейко, Балбуцкого и засольщика, удобно рассевшихся на койках.
— Сто ты сутки сутис? — обрушился на меня засольщик. — Людям кусать хоцется, а ты сатаесся цорт знает где.
— Там вода, — сказал я дрожащим голосом, — пробраться трудно.
Все повернулись ко мне.
— Продрогли? — спросил Овчаренко. — Снимайте сапоги и лезьте наверх.
— Д-д-да, — сказал я, с трудом сдерживая дрожь, — продрог немножечко.
— Смотайся, принеси сухие портянки, — скомандовал Донейко.
Я отдал коку кастрюли и примус и пошел к себе в каюту. Наверное, не меньше ведра воды вылил я из сапог. Ввиду исключительных обстоятельств я лил воду прямо на пол, и она стекала под койку, потому что пол здесь, как и всюду, шел теперь под уклоном. На мне буквально не было сухой нитки. Я заодно переоделся весь. Очень приятно было чувствовать на теле сухое белье.
Переодевание заняло у меня очень много времени. Озноб не проходил, и трудно было трясущимися руками одеваться и особенно застегивать пуговицы. Зато, переодевшись, я почувствовал себя значительно лучше.
Когда я вернулся, меня встретил шум примуса и шипение баранины на сковороде.
— Цорт тебя знает, Слюсарев, — сказал засольщик. — Какая ты сляпа. Переодеваесся, как дом строис.
В Ленинграде меня всегда раздражал шум примуса, но здесь, в каюте полузатонувшего судна, примус шумел удивительно весело и приятно. В жужжании его мне слышалась такая бодрость и такой задор, что невольно становилось как-то веселей на душе. Пусть судно сидит на банке в холодном море у неприступного берега, пусть на море шторм и шлюпка разбита и на всех надеты спасательные пояса, но шумит примус, шипит баранина, и, значит, мы уже не спасаемся, а живем, не ожидаем, а бытуем, и уже тверже кажется палуба под ногами и не так близка вода холодного моря.