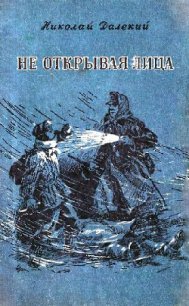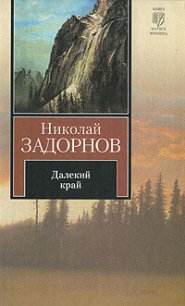Охота на тигра - Далекий Николай Александрович (читаем книги бесплатно .TXT) 📗
И все же Люба была рада этой работе и считала, что ей повезло. Теперь они жили с матерью в маленькой комнате с крохотным оконцем, куда их выселили с прежней квартиры. Мать хворала все чаще и чаще, а последнее время ослабела до такой степени, что иногда целые дни проводила в постели. Люба все еще не теряла надежды, что мать поправится, она ухитрялась иногда раздобыть хоть немного козьего молока, давала больной по ложечке меду и смальцу — пришлось раскрыть две заветные баночки, отложенные на самый-самый черный день.
Было много у Любы этих черных дней, но, как она поняла, самый черный день наступил сегодня. Сегодня фрау Боннеберг объявила, что ликвидирует свое дело, и укатила в Германию, оставив своей «безупречно честной и исключительно трудолюбивой русской работнице» в подарок комнатные шлепанцы, испорченные щипцы для завивки волос, большой моток неиспользованного бумажного шпагата и рекомендательное письмо. Срок пропуска девушки кончался через три дня, в продовольственной карточке оставалось только три талона на хлеб. И никаких надежд.
Траурно-черными казались буквы объявлений о переучете на бирже труда. С тех пор, как гитлеровцы появились в их городе, Люба убедилась, что буквы, один лишь вид печатных букв, может вселять в ее сердце ужас, как если бы власти использовали для своих приказов какой-то особый, устрашающий шрифт. Конечно, буквы тут ни при чем. Все дело в словах: «За невыполнение приказа — расстрел...», «Караются смертью...», «Злостных саботажников ждет наказание — смертная казнь...» В сегодняшних объявлениях нет слов «смерть», «расстрел», но они угадываются за другими. «Лиц, уклонившихся от перерегистрации, ждет суровое наказание».
Перерегистрация — это отправка на работы в Германию. Люба знает, что ей не помогут никакие объяснения, слезы, мольбы. Раньше крупной взяткой можно было хотя временно отвратить беду. Сейчас «власти» взяток не берут. Боятся: немцы стали строгие, им до зарезу нужна рабочая сила. Да и откуда у Любы деньги для такой взятки? Ни денег, ни вещей, ни надежд.
Люба шла, погрузившись в свои невеселые мысли, и, когда увидела бывшую подружку Аллу Скворцову, растерялась от неожиданности. Алла в голубенькой куртке с выложенными короной на голове тугими косами показалась из-за угла и повернула к ней навстречу. Шмыгнуть в какой-нибудь подъезд, перейти на другую сторону улицы? Нет, поздно, Алка все равно заметит ее, подумает, что Люба испугалась. Значит, нужно идти как ни в чем не бывало, глядеть на нее равнодушно и ни одного слова, только легкий презрительный кивок головой — да, мол, дружила немножко, а теперь и знать тебя даже не желаю.
Хороша Алка все-таки. Идет, бедрами покачивает, стройными, точеными ножками играет, будто на репетицию в танцевальный ансамбль отправилась. Как выступала сна на концертах художественной самодеятельности! Как ей аплодировали! Недаром в школе мальчишки старших классов иначе не называли ее как «Звезда балета». Ах, Алка, Алка! Себя опозорила, всю школу, всех своих друзей. Не надо смотреть на ноги. Можно и в глаза. Чтобы не думала, что ее боятся. Нет, не боятся, а стыдятся только. Глаза чуть-чуть подрисованы карандашом, но больше никакой косметики не заметно. Сколько раз ночевала она у них в доме. На одном диване спали, до полуночи шептались, хихикали, и вот проходит она близко, так что плечом о плечо можно чиркнуть, но ведь чужая и пропасть между ними непроходимая лежит.
Люба, не сбавляя шага, едва заметно кивнула головой. Вот и все... Прощай, Алка, прощай, дрянь девчонка. Навсегда.
— Люба!
Остановилась, зовет... Нет, не слышу я. Иди своей дорогой, катись подальше.
— Любаша!!
Но как не оглянуться? Ладно, оглянусь. Что тебе потребовалось от меня?
Алла подошла вплотную, лицо розовое, глаза блестят.
— Не хочешь знаться со мной, Любаша? Напрасно. Гордая такая! Еще бы! Ты патриотка, а я... Но все-таки ты особенно нос не задирай, Любочка.
Люба молчала, смотрела в красивые, то злые, то веселые глаза бывшей подруги. Кажется, Алла была пьяна, и Любе не хотелось начинать с ней какой-либо разговор.
Но от «звезды балета» не так-то просто было отвязаться.
— Несколько раз замечала, что избегаешь меня. Боишься, как бы не увидели нас вместе. Как же, будет пятно в биографии? А я вот не боюсь разговаривать с партизанской связной, хотя меня за это тоже по головке не погладят.
Люба испугалась, побледнела. Не была она ни партизанской связной, ни подпольщицей, но ведь можно пострадать и ни за что, а так, за здорово живешь.
— Что ты городишь, Алка? Пьяная...
— Ага, сдрейфила. Нет того, чтобы пригласить подружку в гости. Даже на улице стесняешься разговаривать.
— Ты не знаешь разве, что живем мы сейчас у чужих из милости. Где же нам в темном чулане приемы устраивать.
— Тогда идем ко мне, — обрадовалась Алла. — Идем, идем. Мой явится не скоро. Мой повелитель! Рыцарь! Идем, не пожалеешь. Я тебя накормлю и напою. Да ты не бойся.
Алла вцепилась в руку Любы и потащила ее за собой. Люба упиралась, но из дворов, из-за заборов уже поглядывали на них люди и сопротивляться было бессмысленно.
Алла со своим «повелителем» жила на этой же улице в хорошем каменном домике, занимала кухню и большую горницу, окна которой закрывались на ночь изнутри щитами из толстых дубовых досок. В комнате было тесно от обилия мебели.
— Садись! — широким жестом Алла показала на стул, стоявший у стола, покрытого бархатной скатертью с тяжелой бахромой. — Что смотришь? Не удивляйся. Да, да, все это чужое, награбленное. И мебель, и скатерть, и хрусталь, и серебро в буфете.
Алла принесла с кухни блюдо с пирожками, сало, нарезанное мелкими ломтиками, и начатую бутылку рома с завинчивающимся на горлышке металлическим колпачком.
— Вот, угощайся, Люба. И домой можешь взять. Знаю, знаю, там у вас нехватка. А я живу как баронесса. Что поделаешь? Давай выпьем. Что, разве нам не за что выпить? А за нашу молодость, за дружбу? За комсомольскую юность?
— Ты не была комсомолкой, — мрачно уточнила Люба.
— Я это так, к слову. Красиво звучит... Я не любила политику, я любила искусство. Обожала.
Алла налила в рюмки, чокнулась, выпила первой. Кажется, с удовольствием, хотя скривилась и крякнула, как-то по-мужски вытерла кулаком рот, губы и отправила в рот ломтик сала.
Люба даже не притронулась к рюмке, но хозяйка, видимо, не заметила этого. Алла сидела, откинувшись на спинку стула, запрокинув голову и закрыв глаза.
— Вот ты, я знаю, ты презираешь меня, — заговорила она тихо, печально. — И я сама себя презираю. Нет, не презираю. Мне просто иногда бывает жалко себя. Понимаешь, так жалко, такое зло меня разбирает, что мы попали в эту кутерьму. Как будто не могла война начаться раньше или позже. Нет, нужно было ей начаться в пору нашей цветущей юности. И мне жалко себя. Я все знаю, я все понимаю...
Алла открыла глаза, наполнила свою рюмку.
— Почему не пьешь, Люба? Выпей немножко. Ну, тогда закусывай. Ешь, не стесняйся.
Она быстро опорожнила рюмку и продолжала:
— Вот вернутся наши и скажут, какая сволочь эта Алка, предательница, подумать только — с немцами спала, фашистов ублажала, а ведь могла бы стать звездой художественной самодеятельности, порхала бы на сцене в пачках и доставляла бы людям эстетическое наслаждение. И ты так думаешь, Любаша? Я знаю, думаешь...
Алла закусила губу, покрасневшее лицо ее сморщилось, по щекам потекли слезы. Видимо, давно ждала она случая, чтобы высказать все, что накопилось в ее душе.
Она ведь знала, что только немногие женщины в городе завидуют ее роскошной жизни, остальные жестоко ее ненавидят. Пропащий человек Алка... Люба на какое-то мгновенье почувствовала жалость к своей бывшей подруге, но тут же подавила в себе это чувство. Жалеть таких нельзя. Нельзя! Она отвела взгляд, наклонила голову.
— Знаю, знаю, Любочка, что ты хочешь сказать, что ты можешь сказать. Но я не такая. Понимаешь, я в героини не вышла. Не родилась я для геройства, ну что ж я с собой поделать могу? Ведь лучше признаться честно, что у тебя нет мужества, что ты слабый человек, чем взяться за дело, а потом, когда тебя прижмут и раскаленные иголки под ногти будут засовывать, нюни пустить, расплакаться и обо всем рассказать, всех выдать.