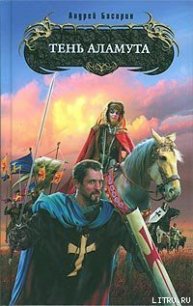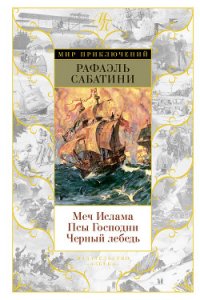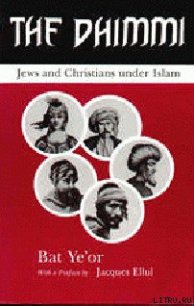Тень ислама - Эберхард Изабелла (читать полную версию книги .TXT) 📗
НЕГРИТЕНОК
С некоторого времени мне прислуживает негритенок Месауд. Ему четырнадцать лет. Большой для своего возраста, он носит белую рубашку с шерстяным поясом, а на выбритой голове пучок курчавых волос — двойной знак несовершеннолетия и рабства. Свешиваясь над правым ухом, это странное украшение придает подвижной и хитрой физиономии негритенка нечто комическое и обезьянье. За неимением кольца, Месауд в проколотую мочку уха продел свернутую синюю бумагу.
Ловкий, как кошка, вороватый, лгун и болтливый, как все негры, — он представляет собою тип плутоватого маленького раба.
Когда я посылаю его купить мне табаку у еврея, Месауд мчится во весь дух, но, возвращаясь, обманывает меня на сдаче. Он видит, что я ничего не понимаю в монетной системе Марокко, и пользуется моим невежеством.
Когда я упрекаю его за мошенничество, он делает печальную физиономию, клянется, а затем начинает громко смеяться, как будто бы мои упреки казались ему очень смешными.
За чашку мятного чая он сделает все, что угодно. В то же время, он ленив до невероятия и, когда не хочет, то делает вид, что не слышит приказаний. Он в лицо насмехается над взрослыми рабами и безнаказанно язвит всех.
Ба-Махмаду, ключарь, смотрит на Месауда с ужасом:
— Это чума, дитя греха, несчастье!
Он делает сердитые глаза, чтобы напугать Месауда, но тот смеется и убегает.
Когда негритенок хочет получить что-нибудь, он становится покорным, ласковым, пускает даже в ход грацию, жеманство и надоедает своею предупредительностью. Но все это прекращается в один миг, раз он получает желаемое. Лакомка и обжора, он лижет блюда и целый день грызет ворованный сахар.
Месауд не любит никого, даже своего отца, работающего в садах Сиди-Брахима. Когда старик отваживается иногда прийти во двор, Месауд гонит его вон с тем презрением, которое выказывает обыкновенно хорошо поставленный в доме слуга к крестьянину.
На все мои упреки по этому поводу маленький бездельник отвечает с гримасою:
— Он грязный! Он пахнет навозом! Он вшивый!
Со всеми марабу Месауд почтителен лишь настолько, чтобы не получить по затылку. На их брань он показывает им за спиною язык.
Маленькое животное, полное грации и порока, демон семьи, ненавидимый чужими, этот негритенок объяснил мне многое в белых детях.
АРАБСКАЯ ТЕОКРАТИЯ
Вековое влияние арабских марабу внесло глубокую перемену в учреждения и нравы жителей Кенадзы.
У всех остальных берберов верховная власть в каждом племени принадлежит «джемаа», т. е. собранию представителей отдельных родов. Это собрание решает все вопросы политического и административного характера. Оно избирает главу племени, и до тех пор, пока последний остается у власти, все племя подчиняется ему беспрекословно, но в своих действиях он обязан отчетом пред джемаа.
Берберские собрания обыкновенно весьма шумны. Страсти на них разыгрываются иногда до кровопролития, и тем не менее берберы сильно дорожат своим выборным началом.
В Кенадзе теократический дух арабов восторжествовал над республиканским духом берберов.
Единственным наследственным владетелем ксара является вдесь глава зауйи. В случае войны он назначает предводителей. Он разбирает уголовные дела и является высшею инстанцией при решении дел гражданских, подлежащих ведению кади.
Сиди-Мохамед-Бен-Бу-Циан, основавший братство, хотел сделать из своих последователей общество мирное и гостеприимное.
Зауйя и земля, принадлежащая ей, играли при нем роль убежища: каждый преступник, укрывшийся здесь, находился вне досягаемости суда человеческого. Если это был вор, марабу приказывал ему вернуть украденное. Убийца должен был заплатить за пролитую кровь.
Потомки Сиди-Мохамеда-Бен-Бу-Циана начали строже относиться к ворам и зачинщикам скандалов как между свободными жителями, так и рабами. Виновные в обоих этих преступлениях наказываются палками.
Существует обычай, что во время исполнения приговора один из присутствующих встает и просит помилования осужденному. Марабу уступает обыкновенно таким просьбам.
Влияние марабу было настолько сильно, что берберы и харатины обарабились до потери собственного языка. Нравы их смягчились. Ссоры и кровавые расправы сделались более редкими, ибо простой народ привык находить в решении марабу справедливость.
Но с тех пор, как марабу начали поддерживать добрососедские отношения с французами, сами они впали в подозрение у народа.
Пока никто не смеет высказать этого громко. Все повторяют мысли и слова Сиди-Брахима, но если бы не личные моральные качества последнего, то, вероятно, ему не раз бросили бы вслед — «м’цана!»
Какова-то будущность Кенадзы, и что станется через несколько лет с этим маленьким государством, столь оригинальным и столь замкнутым?
НА ПОЛЯХ ПИСЬМА
Сейчас середина лета, но счет дням я потеряла. Я больна лихорадкою с чередующимися в ее промежутки приливами то тоски, то радости, то еще какого-то мучительного чувства.
Вчера я получила письмо, выкупавшееся в свете совсем иного солнца, чем то, которое и поддерживает и подтачивает мои силы. Боже, как легко сделаться эгоистом. Достаточно почувствовать на себе улыбку новых глаз — и мы спешим сообщить эту радость своим старым друзьям…
Когда я возвращусь в Алжир, где мое сердце, как гонимый бурею парусник, натолкнулось на камень и залилось волнами нестерпимого горя, — с кем, а главное, о чем буду говорить я?
Женщины не могут понять меня; они считают меня странным существом. Я слишком проста для их вкусов, увлекающихся искусственностью и искусством. Им нравится бесконечная комедия на один и тот же сюжет, которую они играют каждый день. Они не допускают при этом даже перемены костюма.
Когда женщина перестанет быть игрушкою мужчины и сделается товарищем его, она начнет новое существование. В ожидании этой перемены ее учат дышать в размер и такт вальса.
Говорят, будто вырастает новое поколение и некоторые молодые девушки начинают говорить не одними только глазами, не впадая для этого в болтовню о равноправии и социальном переустройстве. Но я не верю этому и думаю, что это еще один из обманов воспитания, который не устоит перед всемогуществом тона гостиных.
Да и каких, если сказать правду, мужей найдут эти искренние души? Сами мужчины, особенно в провинции, — ведь это одни только любители юбок! Женщина может быть всем, чем угодно, но я до сих пор не видела, чтобы мужчина старался сделать из нее что-нибудь, выходящее из границ моды. Рабу или божество — вот что они могут любить, а никак не равную себе.
Я набросала эти мысли на полях письма, пришедшего ко мне с далекого Севера и обдавшего меня струею холодной и жестокой беззаботности. После него меня еще сильнее засосала тоска изгнания, и мне захотелось уйти еще далее в глубь неприязненного мне юга. Меня не тянет в Париж, который я узнала хорошо и где словесный феминизм был мне еще менее симпатичен, чем кокетство инстинкта.
Я не написала в своем ответе ничего, что стоило бы труда быть прочитанным… Зачем?
В тот день, когда разошлись наши дороги, обособились и наши судьбы. Нам делают честь, приглашая разделить их чуждое нам чувство… Спасибо! — Но больше говорить нам не о чем.
УЖИН В САДУ
Зная о моем недомогании и желая развлечь меня, Сиди-Брахим прислал мне приглашение отужинать на открытом воздухе в саду зауйи. Посольская миссия возложена была на Си-Абдель-Уахаба, одного ученого, прибывшего с Востока с намерением поселиться в Кенадзе.
Я часто любуюсь тем, как самые маленькие вещи получают здесь полноту и благородство. Непринужденность и нестеснительность — это чисто европейские качества, делающие жизнь более легкою. Но когда вы привыкнете к вольности народа, вам становится трудным принимать всерьез тот особый вид, который в известные дни и при известных обстоятельствах напускают на себя люди, самые вульгарные, самые неспособные к деликатности. Вся их учтивость кажется ложною, точно они нарядили свои слова в сильно жмущие под мышками воскресные одежды.